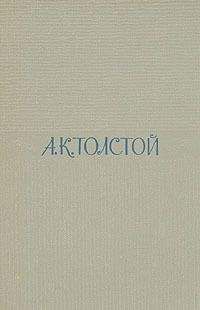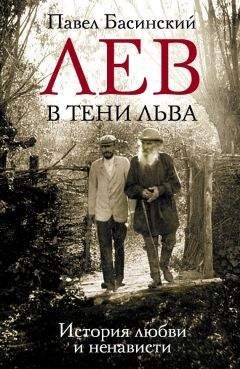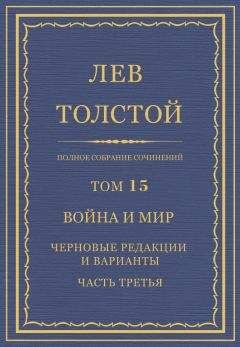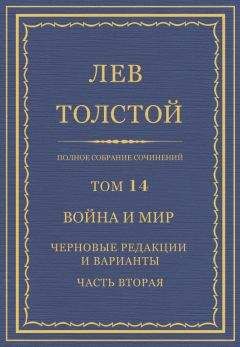Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
Разговоры эти почти всегда кончались музыкой и пением Наташи. Потом, когда расходились, Наташа вскакивала на спину Николая и требовала, чтобы он нес ее наверх спать и там задерживала его. Она умышленно сближала его с Соней и радостно сощуренными глазами изредка поглядывала на их любовное шушуканье. Несмотря на приближающееся свиданье с своим женихом, Наташа была самым веселым лицом этого общества. Когда получались письма от князя Андрея, а иногда просто когда что-нибудь живо напоминало ей о нем, о своей любви к нему, о том счастьи, которое она ожидала от своего замужества с ним, — на нее находили минуты такого страшного нетерпения, желания видеть его, отчаяния от разлуки, что она убегала в свою комнату и начинала рыдать.> Но чувство это было так сильно, что она боялась его. Она знала, что не перенесет ожидания, ежели позволит себе думать о нем, и потому она умышленно старалась забывать его и достигала своей цели. Она инстинктивно раздвигала так колеса своего душевного механизма, что это колесо любви к своему жениху не цепляло за остальной механизм ее жизни и она чувствовала себя вполне свободной, еще более свободной и доступной, чем прежде, к восприниманию всех мелких радостей жизни.
————
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
* № 131 (рук. № 89. T. II, ч. 5, гл. I).
<Вскоре после нарышкинского бала, где особенно была замечена прекрасная Hélène, Pierre был пожалован в камергеры, и его супруга пришла к нему, сияя от счастия, объявить эту радостную новость. Теперь она имела въезд ко двору, и теперь уже Pierre не может отказаться. Услыхав это, несмотря на всё искусство самопознания и совершенствования, в котором так долго и усердно упражнялся муж Hélène, вся кровь прихлынула ему к горлу, он вскочил и, выговорив страшно тривиальное, бранное слово, объявил жене, что скорее он умрет, чем нога его будет при дворе, и объявил, что он едет в Москву. Pierre уехал в первое время один, но вскоре и Hélène, которой по разным сложным, придворным соображениям неудобно было оставаться, далее оставаться при дворе, соединилась с своим мужем. Из Москвы уж Pierr’y уже бежать было некуда, и потому он остался с женою. «Притом всё так скоро кончится, что не стоит», думал он.
Последнее заседание, вместе с Андреем, Шотландской столовой ложи, улыбка князя Андрея при обрядных словах закрытия, ссора и интриги с Астреею и получение актов 6-й степени, а главное, что страннее всего, любовь Наташи к князю Андрею вдруг заставили усумниться Pierr’a в[3533] разумности, правде, чистоте и нужности для него масонства. Дорогой из Петербурга в Москву он все три дня, не переставая, перебирал, вспоминал свои впечатления масонства. Воздержание и самосовершенствование ни к чему не привело. Так же он вставал поздно, так же на каждой станции пил водку и лафит, хотя знал, что это ему вредно. Жизнь свою семейную и своих подданных лучше не устроил. Ежели он дал много пожертвований на убранство ложи и на [его] деньги заведена настоящая серебрянная звезда, то никому не стало лучше. «Цель и клятва наша — помощь ближнему, а по счетам сборов приношений у нас в заседании собиралось десять, пятнадцать рублей, когда сидели мастера по десять тысяч душ состояния. По общей книге расходов я платил за всех и все в долгу, и малые то приношения не платят.[3534] Таинств я никаких не узнал, хотя и проник до IV степени, сера и меркурий — вздор. Отец наш Адонирам не имел секретов и не за что было его убивать», с улыбкой уже думал Pierre, подъезжая к Москве.>
* № 132 (рук. № 89. T. II, ч. 5, гл. I—II).
<Одно только, отличавшее Pierr’a от других, но и то общее с большинством людей его состояния, — он последнее время страстно увлекся живописью и приобретением и увеличением своей уже огромной галлереи>.
<В 11-м году зимой Pierre [жил] в огромном, заново отделанном безуховском доме, в котором большинство москвичей считали за честь быть приглашенными на большие ужины, но в котором Pierr'y одному было тяжело и скучно. Его монастырь, его тот уголок с несложными условиями жизни, в который он уединялся от всей путаницы действительности, был клуб, особенно с помощью выпитой одной или двух бутылок вина. Там он всё бранил, над всем смеялся, как и все московские старички в клубе, частью оттого, что легче критиковать и бранить, чем понять смысл дела, частью оттого, что в характере Москвы не делать уступок и глупость называть глупостью. Не одно происходило от другого, а обе причины совпадали. Несмотря на то, однако, когда скучая Pierre появлялся в обществе; он, сам не зная того, делался французски мил и любезен, и про него говорили: «il est charmant, c'est dommage (что то), c'est un homme de beaucoup d'esprit».[3535] Ho Pierr’y было скучно и тяжело. Князь Андрей был далеко и не писал, знакомых были все, а друга, любимого человека, мущины или женщины, не было ни одного. В середине зимы Pierre узнал, что в Москву приехал с дочерью князь Николай Андреевич Болконский. Он был, как говорили, слаб, стар и болен и приехал лечиться. Pierre поехал к нему, был принят особенно ласково, как и тот раз в Лысых Горах, и с тех пор дня не проходило, чтобы Pierre не бывал у них. И старый чудак с дочерью сделались для Pierr’a именно теми людьми, которых ему нужно было, людей, которых бы он любил сердцем. Старый князь, приехав в 11-м году после долгого изгнания>
* № 133 (рук. № 89. T. II, ч. 5, гл.II).
<Pierre, кроме удовольствия слушать его, испытывал радостное чувство и любовался на весь обиход такой особенной, старинной жизни князя Болконского — и лакеи в пудре, и огромные трюмо, и вся мебель дореволюционного, екатерининского времени — любовался и на самый вид этого крепкого старика, живущего одного с внуком и двумя молодыми женщинами, княжной Марьей и m-lle Bourienne, хотя разнообразно, но одинаково сильно преданными ему, угадывающими его мысли и желания, и, как казалось Pierr'y, ничего не желающими кроме того, чтобы всегда быть с ним. Pierre любовался на княжну Марью и завидовал ей. Когда он ей это сказал, он заметил в ней замешательство и объяснил его тем, что ей неприятно было слышать похвалы о том, что не должно было быть иначе.
Pierre забывал и судил, как и всегда все посещающие дом, только тогда, когда готовы принимать их>.
№ 134 (рук. № 89. T. II, ч. 5, гл. I—V).
Любовь князя Андрея и Наташи и их счастье было одной из главных причин происшедшего переворота в жизни Pierr’a. Ему не было завидно, он не ревновал. Он радовался счастию Наташи и своего друга, но после этого[3536] вся жизнь его расстроилась. Весь интерес масонства вдруг исчез для него. Весь труд самопознания и самосовершенствования пропал даром. Он поехал в клуб. Из клуба с старыми приятелями к женщинам. И с этого дня начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Pierre, ничего не сказав ей, собрался в Москву и уехал.
В Москве, как только он въехал в свой огромный дом, с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной праздно кормящейся дворней, как только он увидал, проехав по городу, эту Иверскую с свечами, эту площадь с неизъезженным снегом, этих извощиков, эти лачужки Сивцова Вражка, увидал стариков московских, всё ругающих, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь и английский клуб, он[3537] почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Со времени своего приезда в Москву он ни разу не открывал своего дневника, не ездил к братьям масонам, отдался опять своим главным страстям, в которых он признавался при принятии в ложу, и был, ежели не доволен,[3538] то не мрачен и весел. Как бы он даже не ужаснулся, а с презрением бы не дослушал того, который семь лет тому назад, до Аустерлица, когда он только приехал из за границы, сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея определена предвечно и давно пробита. Жениться на красавице, жить в Москве, давать обеды, играть в бостон, слегка бранить правительство, иногда покутить с молодежью, быть членом английского клуба. Он и хотел произвести республику в России, он хотел быть и Наполеоном, он хотел быть и философом, и хотел залпом выпить на окне бутылку рому, он хотел быть тактиком, победителем Наполеона, он хотел и переродить порочный род человеческий и самого довести себя до совершенства, он хотел и учредить школы и больницы и отпустить на волю крестьян и, вместо всего этого, он был богатый муж неверной жены, камергер в отставке и член московского аглицкого клуба, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить слегка правительство. Он был всем этим, но и теперь не мог бы, не в силах бы был поверить, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад. Ему казалось, что он совсем другой, особенный, что те совсем другие, те пошлые, глупые, а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать всё это для человечества. Ему бы слишком больно было подумать, что верно и все те отставные камергеры так же бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни, и так же, как и он, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силы, которая заставляет картофельные ростки тянуться к окну, — приведены были, как и он, в Москву — английский клуб, легкое фрондерство против правительства и отставное камергерство. Он всё думал, что он другой, что он не может на этом остаться, что это так, покаместа (так покаместа уже тысячи людей входили со всеми зубами и волосами и выходили без одного из московского английского клуба) и что вот-вот он начнет действовать... Он и его друг Андрей в этом взгляде на жизнь были до странности противуположны один другому. Pierre всегда хотел что-то сделать, считал, что жизнь без разумной цели, без борьбы, без деятельности не есть жизнь, и всегда он ничего не умел сделать того, что хотел, и просто жил, никому не делая вреда и многим удовольствие. Князь Андрей, напротив, с первой молодости считал свою жизнь конченною, говорил, что его единственное желание и цель состоят в том, чтобы дожить остальные дни, никому не делая вреда и не мешая близким себе, и вместе с тем, сам не зная зачем, с практической цепкостью ухватывался за каждое дело, и увлекался сам, и других увлекал в деятельность.