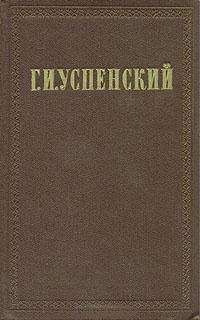Глеб Успенский - Том 5. Крестьянин и крестьянский труд
С другой стороны, выказали ли ясно и твердо те же самые образованные люди свое намерение привести мужика к одному знаменателю, указать ему «точку» и на этой точке утвердить на веки веков, чтобы на веки веков мужик знал и эту точку и «свою линию»? Нет, не решились и на это. Правда, нельзя сказать, чтобы они помешали мужику запутаться, остаться в дураках, но они нерешительностью поддерживали в нем фантазии. Они говорили: «погодите… все сделается, получите бумагу… план, план — план… без плана ничего нельзя… план на всю землю… прежняя нарезка… как прежде…» Таким образом действуя, они не только не искоренили вредных иллюзий, но положительно, можно сказать, развивали и поддерживали их. Таким образом, в конце концов получилось не просто разорение одной стороны и устроение другой — как это было бы при решительности и решимости в образе действий, — а разорение обеих сторон и кроме того ожесточение: мужики ожесточены на помещика, помещик на мужиков, и оба вместе потеряли и веру и уважение в образованных, «не мужиков», которые поставили их обоих в такое нелепое положение. Нам даже кажется, что твердое и ясное определение мужицкой «точки» и мужицкой линии в этом деле не разорило бы мужиков: они бы, зная в первые же дни после 1861 года, что не будет земли, давно бы, хоть и скрепя сердце, покорились своей участи и уж давно приспособились бы к тем условиям, в которые их поставило бы решительное «не будет!» Они бы стали тратить деньги не на бесплодные тяжбы, а на хозяйство, на аренду земельки в людях, а иные разошлись бы по заработкам, по чужим местам и людям. Теперь же они отуманены, оскорблены, истощены вконец, теперь они несправедливо измучены и совершенно справедливо ожесточены.
А сами образованные люди, не обретшие определенных целей для своих поступков, разве они лучше чувствуют себя, чем ожесточенный владелец или ожесточенный мужик? Спросите-ка их о состоянии духа, и они скажут вам: «ад!», то есть в душе-то у них — ад кромешный. Да и в самом деле, разве в глубине души каждый из них может считать себя чем-либо иным, как не вполне потерянным человеком? Разве все эти председатели и предводители могут чувствовать к себе какое-либо уважение, раз они решатся подумать о своих поступках по совести? Разве становой пристав, всучивший план, не сознает себя обманщиком, из-за которого разорены вконец три деревни неповинных людей? А прокурор, который решился всех этих явно невинных людей обвинять, который решился обвинять даже жену неповинно убитого мужика, разве может он убедить самого себя, что, делая это, он делал справедливое дело? Ничуть и никогда. Все они носят внутри себя горькую желчь и все чувствуют себя в узах неправды. Мало этого, сознание своей нравственной неправды, нравственной муки все эти люди не мужицкого звания выказывают постоянным желанием оправдания и всегда даже рады тому человеку, который вызовет их «на откровенный разговор», начнет выводить «на чистоту», конечно без свидетелей. В такие минуты оказывается, что все они вполне понимают свою вину, а главное, оказывается, что они действовали так, даже как бы на пользу тех, кому вредили… Почему, например, вы думаете, они шестнадцать лет не давали мужикам никакого определенного ответа? Да просто потому, что они жалели мужиков, хотели «оттянуть» роковую минуту, потому что владелец, с которым мужики тягались… Боже мой, как расписали они владельца! Председатель, так тот, по собственным его словам, «имени» этого человека не может слышать равнодушно, и утроба его готова лопнуть от негодования всякий раз, как он услышит это имя. Мало того, что все они, не исключая станового пристава, который убил человека ни за что ни про что и который на суде заявил, что ему было жаль хватать поросенка, подлежащего описи, мало того, что все они сознают свою вину, — в искреннейшие минуты, когда сознание собственной душевной срамоты почему-либо выступит особенно сильно, — все они публично даже готовы проклясть себя, осрамить себя, а народ, этого самого мужика, ими запутанного, возвеличить, пасть пред ним…
Но и в такие, казалось бы, искреннейшие минуты в жизни он проклинает себя точь-в-точь так, как я проклинал себя в предыдущей главе под наззанием «Не суйся!» Там я проклял себя (конечно, только для образчика), по-видимому, беспощадно. Не смешал ли я там себя с грязью? Смешал и уничтожил; но это только по-видимому; если же вы разберете подробно, то увидите, что параллели, которые я брал между мной и Иваном Ермолаевичем, самые злостные и неправильные. Я там говорил: что я такое? Я вот читаю газету, а Иван Ермолаевич делает что-то, совсем на газету не похожее; я беспокоюсь бог знает о чем, о пустом, а Иван Ермолаевич беспокоится не о пустом… и т. д. Продолжая эти злостные параллели, можно унижать себя примерно так: я, дармоед, ношу сапоги, а он, труженик, — лапти; я, бессовестный человек, ем ростбиф, а он, чистосердечный человек, — ест снетки с песком и т. д. В таком роде можно проклинать себя сотни лет, и все-таки никакого вреда от этого мне не будет, равно как и пользы не будет Ивану Ермолаевнчу. Что бы мне стоило, если уж я так раскаялся чистосердечно, проклясть себя в самом деле, сказав, например: «я — бессовестный человек потому, что знаю очень много секретов, которые бы улучшили жизнь Ивана Ермолаевича, но, мол, бессовестность запрещает мне их открыть ему; он тогда плюнет на меня и уйдет, а мне надо, чтоб он секретов-то не знал и работал на меня». Этого-то вот, настоящего-то, я ни за что не скажу, а проклинать себя таким вот манером, как показано в образчике, могу сколько угодно, хоть каждый день перед ростбифом. Иван Ермолаевич из этих проклятий, будьте уверены, не сошьет шубы, нет, не сошьет!.. Таким образом, в то время когда Иван Ермолаевич говорит мне: «земельки», я, как бы не слыша этого, валяю сам себя нехорошими словами, пушу себя ужаснейшим образом, но определенный ответ Иван Ермолаевич узнает не от меня, а не иначе как в арестантских ротах, которые и ответят ему совершенно категорически: «не будет!» Так я проклинаю себя. А как я хвалю мужика? О, тут я (а со мной и все вышеупомянутые не мужики) дохожу почти до восторженного состояния; я преподношу Ивану Ермолаевичу такие дары, что у него нехватит духу и пикнуть мне насчет земельки… Во-первых, я валю к его ногам всю цивилизацию всех веков и народов и изображаю ее так, что иначе, как «паршивою», наименовать ее невозможно; в прошлой главе для образчика я привел некоторые приемы, употребляемые при проклятиях цивилизации. Душа поющего хваления мужику, будучи поражена антихристовою печатию, не может и в этом случае поступать вполне совестливо и просто. В приведенном образчике под цивилизацией поименованы кабаки, извозчики, пьянство, наклонности к разрушению семейных порядков, показано, что «от цивилизации» Алексей бьет жену, и т. д. Словом, взято множество свинств, и все они наименованы цивилизацией, которая поэтому сама собой уже оказывается свинством. В проклятиях цивилизации, умышленно представляемой в виде свинства, я с успехом могу выдвигать на сцену и скрежетать зубами и при словах «пиджак», «кадриль», «петровская папироска»… все у меня сойдет с рук, как у деревенского кулака сходит с рук тухлая рыба, гнилая мука, линючий ситец. В этом роде я могу греметь годы, и в то же время, во имя антихристовой печати, опять-таки останусь как рыба нем насчет секрета. Ведь, говоря по совести, я знаю же, что цивилизация выдумала массу добра для человечества; ведь по сущей совести я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услаждена благодаря этой настоящей цивилизации; но мне жаль открыть Ивану Ермолаевичу секрет, потому что когда он «раскусит», так он меня непременно прибьет за то, что я ему все врал. И вот в этом-то пункте, в открытии-то настоящего секрета, я нем как рыба… «Земельки бы…» — слышится тот же глас, но кроме попрания цивилизации, в лице пиджаков и папиросок, у меня есть еще прием, которым я, не давая ответа на прямой вопрос, могу, однакож, с успехом заткнуть рот вопрошающему и в то же время облегчить сердце, наболевшее неправдой и полное горькой желчи. Прием этот заключается в следующем: тот самый мужик, которого привели к разорению мои же приемы, основанные на нерешимости открыть секрет, которого я, благодаря антихристовой печати, разъедающей мою совесть, шестнадцать лет обманывал, которому я «всучил» план, в которого палил из пистолета, которого упек в острог, которого пустил по миру, — этот-то самый продукт моей бессовестности и бессердечия, этот-то самый стыд мой, олицетворенный стыд, делается предметом гимна. Этого нищего я начинаю воспевать не как собственный укор, а как идеал всего, что есть наилучшего на белом свете. Я сравниваю его со Христом, который в рабском виде исходил всю землю нашу; мил мне этот босой, исхудалый, истощалый человек, мил этот ворот, разодранный у рубашки, эти заплаты, эта крайняя бедность, у которой ни кола, ни двора, ни куриного пера и которого кончина — в овраге близ большой дороги или в лесу… Я даже так умею ухитриться, что это-то безропотное существование, эту кротость нищего солью с собственною своею кротостью в покорности судьбе, с тем, что я тоже терплю всю жизнь и не ропщу, что я, подобно ему, безропотно слушающему отказ в подаянии, безропотно исполняю приказ ловить поросенка, стрелять в мужика, обвинять невинного, разорять бедного, — что оба мы терпим; что мы оба одно и что из обоих нас вместе выходит одна триумфальная арка. Но, несмотря на то, что страдания и нищего мужика и мои — реальны, действительны, правду, простую правду я умею показать хвалимому и оплакиваемому мною мужику все-таки только при помощи арестантских рот.