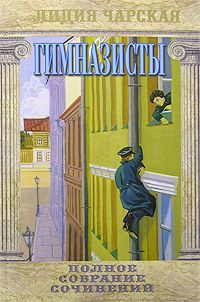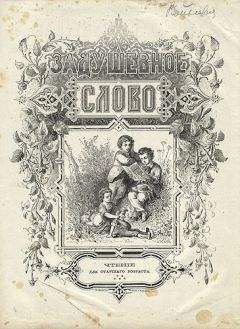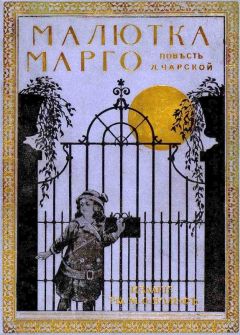Лидия Чарская - Т-а и-та
Все дальше и дальше уводит за собой слушателей в далекий и чуждый мир средневековья бледная голубоглазая Наташа. И от низкого грудного голоса ее и от подернутых трогательной печалью глаз словно веет какой-то далекой сказкой. И когда уносится, как на крыльях, ее красивый нежный голос в мир этой сказки и мечты, пробуждаются, встают невольно перед слушателями далекие картины и образы поэмы: Прекрасная, тихая, грустная королева… Толпа нарядных льстецов, рыцарей и придворных, окружающих ее трон… Развевающиеся перья беретов… Звонкие шпоры — А там, в нишах старого сонного сада, ждет юноша-паж, так трогательно и нежно, так преданно и верно поклоняющийся своей королеве. Но это мечта, увы!.. Одна только светлая, прозрачная мечта. Нет такого человека на свете. Никто не любит печальную королеву за ее душу, за ее сердце. Все видят в ней только могущественную властительницу, и каждый старается угодить ей лестью… И невольно тоскует и мечется бедная одинокая душа…
Сбросить прочь бы скорей этот пышный наряд,
Потушить бы огни, и одной,
Без докучливой свиты, уйти в этот сад,
Убежать в этот сумрак ночной…
Наташа едва успевает закончить чтение под бурные взрывы аплодисментов.
Не меньший успех выпадает на долю и второй декламаторши, Марии Веселовской. Несравненное тургеневское стихотворение в прозе: «Как хороши, как свежи были розы» производит огромное впечатление на слушателей. Сама чтица, со скромно причесанной гладкой головкой, увенчанной тяжелой короной черных кос, серьезным вдумчивым лицом и большими честными, открытыми глазами привлекает к себе невольные симпатии. Ей аплодируют не меньше, нежели Наташе.
— Прекрасно! Прекрасно! С удовольствием слушаю, — говорит почетный попечитель, склоняясь в сторону кресла начальницы.
— Они очень милы, — с довольной улыбкой отвечает Марья Алексеевна, но в то же время волнуется. Сейчас по афише последуют «неспокойные» номера программы: цыганские романсы и пляска-фантазия ála знаменитая танцовщица-босоножка Айседора Дункан. Правда, сама maman тщательно выбрала репертуар песен и приказала Нике танцевать в обыкновенном платье и обуви, а не в костюме балерины, то есть коротенькой тунике и трико. Все-таки начальница и несколько смущена предстоящим исполнением.
Вот на эстраде в пестром наряде цыганки, задрапированная, как тогой, красным платком, в яркой юбке и кофте, с гитарой, перекинутой на алой ленте через плечо, появляется Шура Чернова. Ее смуглое лицо подернуто румянцем. Яркие черные глаза так и сыплют искрами из-под густо сросшихся бровей. Уверенно, без малейшего смущения, садится она на стул и берет первые аккорды.
Струны жалобно и красиво стонут под ее тонкими, но сильными пальцами, а четкий звонкий, с гортанным отзвуком, голос выводит на цыганский лад слова известной песни:
Очи черные, очи жгучие…
Гитара звенит… Струны ее то жалобно плачут, то смеются неудержимым смехом… А черные глаза Шурочки искрятся и сияют, как два черные алмаза.
— Цыганка, настоящая цыганка, — тихим шепотом проносится по рядам гостей.
— Ей бы мальчишкой-цыганенком одеться, еще больше подошло бы, — говорит Хризантема своей подруге, Золотой рыбке, которая сидит тут рядом.
— Фи! Это было и неприлично, — поджимая губки, чуть слышно роняет соседка Сокольской с правой стороны, Лулу Савикова.
— Ну, уж ты молчи, пожалуйста, комильфошка. Тебя послушать — все неприлично выходит: и спать, и есть, и сморкаться, и причесываться, — вступается Золотая рыбка.
А на эстраде один романс сменяется другим. Шуру замучили повторениями. Публика не устает аплодировать после каждой спетой вещицы.
Счастливая и довольная, под гром аплодисментов, уходит с эстрады смугленький Алеко.
С минуту эстрада пуста… Где-то за спущенным, позади нее желтым занавесом, сшитым и разрисованным всевозможными рисунками и цветами, раздаются звуки меланхолического вальса. Это играет лучшая музыкантша Н-ского института Декомб.
Тихо колеблется на задней стене эстрады яркий пестрый занавес с нарисованными самими институтками чудовищно огромными цветами лотосов и головами драконов, перевитыми гирляндами змей, и из приподнявшегося угла его появляется вынырнувшая фигура Ники. На ней длинное коричневое платье, вроде халатика, плотно облегающего стан, нечто похожее на скромный, почти убогий наряд героини оперы Тома — Миньоны. Веревкой, вместо пояса, опоясан ее стан.
Каштановые кудри, с червонным отливом, бегут и струятся по плечам и спине пышными мягкими волнами.
— Какая прелесть! — говорит кто-то из гостей начальнице, склоняясь к креслу генеральши.
— Душка! Ангел! Само очарование! — пробегает по рядам, где сидит младшее отделение институток оставшихся на рождественские каникулы, и в их числе Сказка, она же княжна Заря Ратмирова, мать которой не имела возможности взять девочку на Рождество.
Заря, вместе с другими институтками, впивается в лицо Ники… Многие из младших воспитанниц поклонницы Ники. Ее в институте все любят, иные обожают. Как и в старое время, процветает в институтских стенах пресловутое «обожание», хотя над ним и смеются более благоразумные воспитанницы, считая его бесспорно уродливым явлением. Выражается оно так же несложно, как и встарь. «Обожательницы» бегают за своими «предметами» в перемену между двумя уроками, подносят конфеты, цветы, пишут вензель «обожаемой» всюду, где можно и где нельзя, гуляют после обеда с ней по коридору, а в большую перемену ожидают ее появление у дверей.
Никины поклонницы нередко и раньше видели Нику танцующей. Часто в институтской умывальной вечером, пока не гасилась лампа в дортуаре, сбросив неуклюжее камлотовое платье и прюнелевую обувь, хорошенькая, жизнерадостная Ника Баян носилась в ей самой придуманном танце-фантазии. Желание, а может быть, даже потребность предаться пляске рождались в ней неожиданно, внезапно. И она начинала свой фантастической танец, приводя в восторг его исполнением не только поклонниц, но и прибегающих и сюда «чужестранок», то есть воспитанниц чужих отделений, которые толпились у дверей и любопытными, восторженными глазами следили за юной танцовщицей. Репутация неподражаемой плясуньи, первой по танцам, пластике и грации, прочно и непоколебимо установилась за Никой. Но ничего выученного не было в пляске Баян. Про нее можно было смело сказать, что плясала она точно так, как поют жаворонки в воздушном море, как цветут душистые полевые цветы на пестрых лугах, то есть повинуясь лишь внутренней силе и желанию пляски.
И сейчас вдохновенно и легко носилась она по эстраде под игру невидимой музыкантши, пристроившейся с ее инструментом за занавесом. В коричневой скромной одежде, с роскошными кудрями, с блестящими, как два сверкающие драгоценные камня, глазами, возбуждая всеобщий восторг, носилась она, словно быстрая птица, словно воздушная бабочка или сказочный эльф. Кто научил ее этим позам, этим движениям? Никто. Учитель танцев на все обращенные к нему вопросы по этому поводу только беспомощно разводил руками и повторял:
— Не я. Не я. Моего тут ровно ничего нет. Это врожденное. M-lle Баян одной себе обязана этой грацией, этим уменьем…
Теперь Ника, как вихрь, носилась по красному сукну все быстрее и быстрее. Вот она мчится на самый край эстрады, вся изогнувшись змеей, с разгоревшимся личиком, с пылающими глазами. Несется под звуки музыки, вся — воплощенное вдохновенье, юность, стремительность и красота. И вдруг останавливается, как вкопанная, заломив кверху руки, подняв к потолку восторженное лицо. Ее губы улыбаются, глаза блестят.
— Она действительно прекрасна, — замечает по-французски кто-то из почетных гостей.
Этот голос, дошедший до ушей Баян и заставивший вспыхнуть от удовольствия и радости девушку, перекрывается другим голосом.
Маленькая Глаша вскакивает со стула, на котором сидела так тихо и покорно в продолжение целого часа, и кричит на всю залу звонким детским баском:
— Бабуська Ника, сто ты все плясись? Иди луцсе к нам. Мне скуцно без тебя…
Глава X
— Кто это? Что это? Откуда этот ребенок? — появляется фрейлейн Брунс и, вся красная от волнения, налетает на растерявшуюся, сконфуженную Шарадзе.
— Это… Это… — лепечет взволнованная армянка, не будучи в силах произнести что-нибудь.
— Отвечайте, откуда это дитя?
Сидящая рядом с Глашей Валя Балкашина с видом мученицы хватается за флакончик с нюхательными солями. Как раз вовремя подоспевает Золотая рыбка, за ней Хризантема и другие.
— Ах, фрейлейн… — звенит стеклянный голосок Лиды Тольской. — Боже мой, ведь мы же предупреждали вас, что к Нике Баян сегодня приедет из имения ее маленькая кузина — княжна… княжна… княжна…
Тут Тольская запнулась и побледнела.