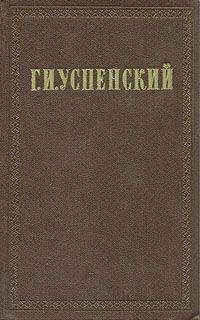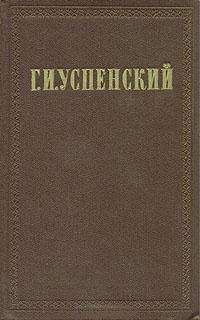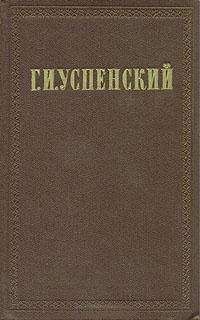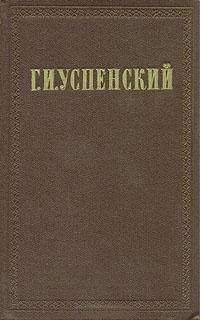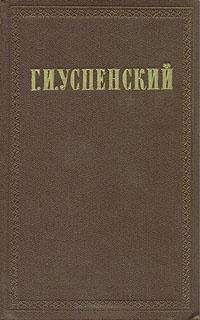Глеб Успенский - Из деревенского дневника
Фраза — «во что бы то ни стало» будет иметь для читателя надлежащий смысл только тогда, когда он даст себе труд подумать: какая такая сила, кроме разве квартального надзирателя, прокурорского надзора и суда, может стать на пути человеку, раз уверовавшему, что «сначала нужно добыть, а потом уж разбирать»?
-
Долго, очень долго разговаривали, мечтали, даже грезили наши приятели всё на тему о том, что вся задача жизни человека умного должна состоять в стремлении «зацепить» где-нибудь, откуда-нибудь «выхватить» куш или, проще, толстую пачку денег и положить ее себе в карман — вот сюда, в боковой, чтобы он вздувался от толстоты… На что им нужна была такая пропасть денег, куда и как намеревались они употребить ее — об этом разговора не было, и я вполне уверен, что они не знали и сами.
— Только бы сюда бы залучить, а там уж оно само собой разберется! — говорил главный оратор, помощник волостного писаря, похлопывая себя по карману, и при слове «разберется» махнул рукой в неведомую даль. Жажда именно только одного — иметь в кармане пачку — была так велика, что, даже совсем заснув, наши приятели продолжали грезить исключительно о каких-то бумажках, пачках билетов, причем помощник неоднократно даже хватался за бок.
Как ни грустно признаться, а признаться надо: такое настоятельное стремление к кушу, такое поклонение пачке денег, без разбора средств, какими дается она (на том свете всяк даст ответ за себя!) и куда она уйдет (потом само собой разберется!..), обуревает в Слепом-Литвине не одних наших приятелей, писарей. Увы! не одна крестьянская голова, большею частью самая талантливая, самая умная, точно так же работает всеми силами ума над мыслью об этом же куше, об этой же пачке. «Только бы ее-то заполучить, а там…» А о том, что там, — никто даже не может еще думать. Не только от крайней нужды, от недостатка в самом необходимом развивается такая жажда к деньгам: серый слепинский мужик, как увидим ниже, добивается денег только на то, чтобы перебиться, и хотя чтит рублевую бумажку, но еще не выучился забывать все на свете для того, чтобы во что бы то ни стало получить ее. Он еще, к счастию, не сообразил своего положения и все думает, что поправится то осенью после уборки, то зимой на свободе, то по весне, ежели бог даст. Но на то он и «сер», чтобы не иметь возможности прийти в себя. Тот же, кто не сер, у кого нужда не съела ума, кого случай или что другое заставило подумать о своем положении, кто чуть-чуть понял трагикомические стороны крестьянского житья, тот «не может» не видеть своего избавления исключительно только в толстой пачке денег — только в пачке, и не задумывается ни перед чем, лишь бы добыть ее.
В прошлом отрывке из деревенского дневника было представлено, хотя, говоря по правде, и довольно поверхностно, кое-что из той путаницы, среди которой живет крестьянин. Если читатель припомнит все, что записано там насчет докторов, учителей, насчет всяких местных имущих власть лиц, то он, надо думать, согласится, что только забитый, серый мужицкий ум может не видеть полной беззащитности своего положения. Во всем, что окружает его, не видно ни тени внимания, ни доброго слова. Жизнь его с самого детства переполнена угрожающими случайностями: переедет лошадь, потому что «вино попалось дюже хорошо»; съест свинья, потому что родильница лежит в обмороке, а домашние так крепко спят, что ничего не слышат, «хоть в барабан колоти»; задохнется от угара, который каждую зиму наполняет на пять, на шесть часов в день аккуратно всякую избу, потому что ни в одной избе нет двойных рам и потому что тепло надо беречь.
Не говоря об этих, ежедневно и ежеминутно висящих над крестьянским ребенком опасностях, поможет ли ему доктор, если захватит его болезнь, эпидемия? Может ли он рассчитывать на помощь родного отца, который, ничего не зная ни в каких болестях, не имеет к тому же иной раз пятака серебром, чтоб купить деревянного масла, уксусу? Выведет ли его на свет божий грамота, если, преодолев все смертоносные случайности детских годов, из ребенка выйдет парнишка, имеющий еще вырасти в человека? Даст ли что-нибудь хоть капельку стоящего школьная наука, за которою приходится бегать четыре-пять зим, иной раз чуть не босиком, иной раз за пять, за шесть верст? А когда он вырастет, сделается сам большой — не вечный ли он борец с недоимкой? — словом, может ли он существовать на свете иначе, как вполне отдавшись на волю божию?
Все, от кого зависит попечение (!) об участи крестьянской души, крестьянского существования, делают свое дело, пожалуй, и добросовестно: учитель учит так, что на экзамене ребята отвечают на разные хитрые вопросы; он в поте лица «обламывает» эти, по его словам, поленья так, что в конце концов они умеют спеть гимн и «Царю небесный»: — он не даром получает деньги. Не даром получает деньги и лекарь, который даже охрип от хлопот и не знает покою ни днем, ни ночью. Не даром получают деньги все прочие печальники, строящие мосты и проч. Но весь этот пришлый народ исполняет обязанности свои как нанятой человек, как человек, которому нужен кусок хлеба для своей семьи, для себя; человек, которому впору исполнить форму, обличье дела. Словом, все это такие люди, на которых деревня не может смотреть как на своих, как на людей, которые бы понимали, «как свои», все деревенские нужды.
Когда придет в деревню учитель — не отставной солдат и не полуграмотный дешевый педагог, оболванивающий деревенские поленья, а умный, вполне образованный человек, проникнувшийся важностью дела — только тогда деревня может рассчитывать на то, что ребятишки ее узнают в самом деле что-нибудь путное. Когда, вместо тысячи рублей жалованья за удовольствие вечных разъездов по громадной территории целого уезда и за глубокое неудовольствие беспрестанного сознания своей полной бесполезности, образованный доктор решится делать подлинное добро в маленьком уголке одной-двух деревень, не рассчитывая ни на какие определенные вознаграждения, кроме добровольных даяний (ведь в городе он получает именно добровольные даяния): — тогда только деревенский ребенок может рассчитывать на существенную помощь.
Но будет ли это когда-нибудь? Придет ли когда-нибудь в русскую глухую деревню такой человек, который решился бы отдать ей свои знания, стать, несмотря на эти знания, в общие условия бедности крестьянской жизни, решился бы не «благодетельствовать», а существовать только на те средства, которые, без принуждений волостного начальства, а по силе по мочи, дадут ему «за его труд» сами крестьяне, и только те крестьяне, которым он помог, пособил, научил?
Когда-нибудь такой человек непременно придет в деревню; теперь же покуда его что-то не видно. Место его занимает человек служащий, чужой, нанятой, какой случится, какой попался, и деревня живет без всякого призора и без единого доброго слова, если не считать священника, каждый грош дохода которого виден крестьянину (а это много значит!), который, будучи понятен крестьянину как человек, зарабатывающий свое пропитание (не больше), хорош для него и тем трудом, который дает ему пропитание. Труд этот облегчающий — так думает крестьянин — положение крещеного человека: он отпускает его прегрешения, лечит молебнами и акафистами; масло из лампады помогает от тысячи недугов; крестный ход годится для урожая, от засухи, для дождя. Даже скот — и тот может рассчитывать на помощь во время эпидемии только от молебна: недаром же, как писали недавно в газетах, крестьяне одной деревни Тульской губернии просили отца своего духовного отслужить молебен «всему православному скоту» и «помянуть» каждую скотину, то есть мою телушку-белушку, Егорову вороную кобылку.
Теперь же, когда в деревне нет человека, который бы, будучи выше по развитию, умней, знающей всего мира деревенского, решился бы зарабатывать себе скудный хлеб своими знаниями, как зарабатывает его священник молитвами, — теперь всякому, мало-мальски очувствовавшемуся деревенскому жителю не может представиться ни в чем спасения, кроме пачки денег за пазухой. Она может вывести его из этой курной ужасной избы, из-под этого беспрестанного гнета ничегонезнания; за деньги он достанет и доктора и учителя и откупится от солдатчины. Он так мало знает, мало понимает, что кругом его делается, что только деньги и могут помочь ему выбраться на божий свет. А раз он убедится, что дело его плохо и что ему трудно, неловко и глупо живется, что ему надо и следует выбраться, раз он понял, что выбраться можно только деньгами: — ни перед чем, ни перед каким средством задумываться он не может. Мгновенно начинает вырабатываться не философ, не «буржуй» (выражение И. С. Тургенева), а просто страстно влюбленный в деньги, в бумажки, «в пачки» человек.
Таких влюбленных в деньги людей, в настоящие дни, полны все углы и закоулки земли русской, благодаря только неожиданности, внезапности всевозможных перемен в условиях русской жизни. Никакие службы на вновь открытых дорогах, никакие воинские повинности, никакие училища, все вместе взятые, не в силах поглотить и дать хлеб народу, который никогда не рассчитывал на то, что ему придется остаться без хлеба. Этого народа в мелкопоместном дворянстве, в чиновничестве, в поповстве, в городском полумещанстве, полукупечестве — непочатые углы, и все они понимают, что положение плохо. Все они ужасно мало могут и ужасно много жаждут, и вот по всем углам земли русской, на крылечках волостных правлений, в дьячковских, дьяконских и священнических домах, в этих бесчисленных домишках уездных и губернских переулков, домишках «вдовы надворного советника», «потомственного гражданина» — везде и всюду тысячи людей, решительно обиженных своим положением, неуменьем взяться, невозможностью рассчитывать на помощь, видящих спасение в случайном заполучении куша, который один только и может их выручить из беды.