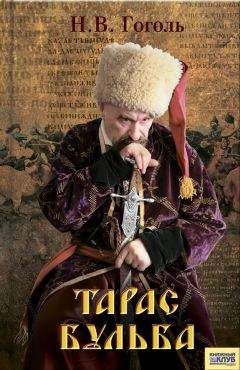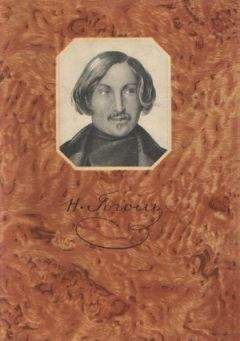Николай Гоголь - Повести
Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта, – сказал он, – но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своем досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не наносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.
– Что ты делаешь, что собираешься жечь? – сказал он и подошел к портрету. – Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.
– А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне, – сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.
– Остановись, ради Бога! – сказал приятель, удержав его, – отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.
Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.
По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:
– Нет, это Бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.
Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:
– Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила…
– Как? – сказал отец мой.
– А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!
Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:
– И портрет теперь у твоего племянника?
– Куда у племянника! не выдержал, – сказал весельчак, – знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.
Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч., и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти – жены, дочери и малолетнего сына – почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если Богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было Рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство Божественного смиренья и кротости в лице Пречистой Матери, склонившейся над Младенцем, глубокий разум в очах Божественного Младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных Божественным Чадом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину, – все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоем».
В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию – лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти Божественный старец! И следов измождения не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.