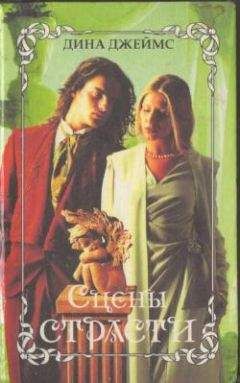Николай Лесков - Божедомы
Тогда ненавистный Варнавка, изъяв эти кости из корчаг, отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости иссушил и хотел собрать из них для неизвестной надобности шкилет, но не сумел сего сам и повез все эти кости в губернию в богоугодное заведение приказа общественного призрения к фельдшеру. Сей искусник в анатомии посцеплял все эти косточки, и шкилет этот ныне находится у Омнепотенского, укрепившего его на окне своем, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы и соблазна общественного, и ссоры, и нестроений домашних у Варнавки с матерью. Мертвец сей начал мстить за себя гораздо рано. О сварении его я получил сведение тотчас же от дьякона Ахиллы, но, не желая тогда говорить с Ахиллой, вид которого напоминал мне мою непроходимую суетность и глупость с тростями, я пропустил сие мимо ушей. Но через несколько часов мать Варнавки, просвирня Василиса Леонтьевна, прибегает ко мне в слезах неутешных, пала на пол и, скорбя и не желая успокоиться, говорила, что лекарь с городничим, вероятно по злобе к ее сыну или в насмешку над ним, подарили ему оного утопленника, а он, Варнавка, по глупости своей, этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно золила свое белье, и отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости, собрав, повез в губернский город, и что через сие она, эта добрая, но глупая вдовица, опасается, что ее драгоценного сына возьмут как убийцу, с костями сего человека, которого он повез в своей пустой, как его голова, наволочке. Вдовицу успокоил, сказав, что напишу, чтобы сына ее не брали. Она сему и поверила, будто все, что я ни напишу, так и сбудется, но отправился к городничему и к сему глупому и лживому лекарю Пуговкину, хотел получить от них ответ, “для каких надобностей труп несчастного утопленника, подлежавший погребению церковному, был отдан ими учителю Варнавке?”, и получил в ответ, что сделано это ими в интересах просвещения, для образования себя, Варнавки, над шкилетом, в естественных науках. Противно мне было это и пресмешно такое рачение о науке, и притом людьми, столь от нее далекими, как городничий Порохонцев, проведший полжизни в кавалерийских конюшнях, или лекарь лгун, долгавшийся до того, что якобы он, выпив по ошибке у Плодомасова, вместо водки, рюмку осветительного керосина, имел целую неделю живот свой светящимся, так что вся семья его дома обходилась без свечки. Но как бы там ни было, а я бросил это дело, как не мое, хоть оно и мое, да только много раз я слышал, что все, за что я ни возьмусь, не мое. Но вот беда откуда приключилась: сваренный Варнавкой утопленник сам начал за себя заступаться.
Еженощно начал он сниться несчастливой матери ученого Варнавы; смущает покой ее и требует у нее погребения. Бедная и вполне несчастливая женщина молилась, плакала и, на коленях стоя, просила сына о даровании ей шкелета для погребения и, натурально, встретила в сем наирешительнейший отпор. Тогда она решилась на меру некоего отчаяния, и, в отсутствие сына к акцизничихе Бизюкиной, собрала кости бедного мертвеца в небольшой деревянный ковчежец и снесла оные в сад, и своими старческими руками закопала его под тою же апортовою яблонью, под которую вылито Варнавкою разваренное тело несчастливца. Но смеху и срама достойно, что из сего воспоследовало!”
Отец Туберозов, положив перо, встал, закурил свою длинную трубку и, улыбнувшись, начал тихо ходить взад и вперед, в одних носках, по комнате. Строгий старик невольно улыбался: перед ним вживе воскресала сцена, до которой он дошел в дневнике своем. Он видит перед собою в судорогах отчаяния валяющуюся старушку Омнепотенскую, которую он слушал когда-то, так же расхаживая по этой самой комнате, а его жена слушала ее, тихо плача и приговаривая: “помоги ей, отец протопоп! помоги, ради милости Божией!”
– Чем? Чем помочь и в чем помочь? – спрашивает, останавливаясь на минуту перед женою, отец протопоп.
– Как чем помочь? Ты все знаешь, чем помочь. Ты слышишь, она говорит, он испорчен, – убеждает мужа Наталья Николавна.
– Испорчен, отец протопоп, испорчен, – лепечет, обтирая раскрасневшееся от слез лицо, просвирня Омнепотенская.
– Кем? Кем, бедная вдова, испорчен он, бесноватый сын твой?
– Злыми людьми, отец протопоп, испорчен.
– Злыми людьми? Гм! Да, я с тобою согласен, его испортили злые люди.
– Да как же: дайте, говорит, мне его, маменька, сейчас, или я сам удавлюсь.
– Боже мой! – произнес, рассмеявшись, Туберозов.
– Или же, говорит, пойду на кладбище и…
– И что такое? – спросил протопоп, остановясь перед внезапно умолкнувшей просвирней.
– Или… что даже страшно сказать, отец протопоп…
– Говори, полицейских нет здесь.
– Или, говорит, я на кладбище другого мертвого человека отрою и домой возьму.
– Ах, скотина какая! – воскликнул Туберозов.
– Или…
– Или еще что? Какое же еще хуже этого или может быть?
– Или… я, говорит…
Вдова замолчала.
– Да ну, говори, если пришла за тем, чтоб говорить! – громко крикнул Туберозов.
Вдова вздрогнула и быстро пролепетала:
– Или я, говорит, первого встречного человека убью и отделаю…
Туберозов плюнул, сел к окну и отвернулся; а старушка все торочит Наталье Николаевне о своих несчастиях с сыном.
– Конечно, – говорила она, – любя Варнашу, я указала ему, где зарыла кости, и он достал их и успокоился, но я теперь, матушка, сама как между двух разбойников распята. Одного зарою, другой мучит: “подай ему энтого”. А дала отрыть, тот ночью приходит, стучится надо мною костями: “зачем, говорит, ты, подлая женщина, это сделала”. Прошу сына: “погребем его!” Ссора. Прошу, пойдем, Варнаша, в Оптину пустынь, ты испорчен, что тебя к мертвому манит, – и в монастырь не хочет…
– Не в монастырь, не в монастырь, вдова, а в сумасшедший дом справь своего сына! – отзывается сердитый отец Савелий, а женщины все пристают к нему: помоги, да помоги, отец протопоп.
– Отчитайте его, – говорит бедная просвирня.
– Иди, иди, бедняга, в дом свой. Не от чего его отчитывать.
Грустная вдова идет к отцу Захарии, и идет не одна, идет в сопровождении разболевшейся за нее душою Натальи Николавны.
Наталья Николавна, увидя ее, даже сделала мужу легкую пику, сказав, что то же самое, что может сделать отец протопоп, может сделать и отец Захария, как человек заведомо святой жизни. Отец протопоп не обратил на это никакого внимания, но гнев его все усиливается, и он вслед за женою и просвирнею сам идет к отцу Захарии, чтобы взятый врасплох старик не сделал какой-нибудь несообразности. Но только что отец протопоп поравнялся с окнами Бенефисова, как слышит голос Захарии, который решительно объявляет: “нет, нет, и не просите меня! Это дело такое, что требует самостоятельности. Да-с, это дело самостоятельности требует, а потому я без отца протопопа ничего не могу, да-с, я не могу-с, не могу”.
Отец Савелий взошел в дом и, обратясь к плачущей просвирне, сказал:
– Жаль мне тебя, бедная, и очень мне жаль тебя. Не будет тебе в твоем дураке сыне ни друга, ни кормильца; но если всенепременно ты хочешь его отчитывать, – согласен попытаться, но не возгнушаешься ли ты мерой моей?
– Мне ли чем, в такой горести моей, отец протопоп, возгнушаться! – отвечала просвирня.
– Ну, так я теперь твою мысль одобряю: давай, будем его отчитывать. Ну, а если он не дастся, согласна ли ты его связать?
– Согласна, отец протопоп; согласна!
– Ну, так и еще раз, твою решимость одобряю и на веревку тебе дам.
– Так-с, – отвечала, кивая своею старушечьей головою, просвирня.
– А книг и свечей не нужно.
– Так-с, – опять кивала старуха.
– А купи ты две свежие метлы, только гляди, чтоб свежие, либо еще лучше – пару кнутьев хороших.
– Так-с, отец протопоп.
– Да вот отца Захарию еще со мною пригласи.
– Прошу вас, отец Захария.
– Да, либо еще лучше, чем его беспокоить, ты дьякона Ахиллу кликни.
– И его кликну, отец протопоп.
– А двери и окна запри.
– Двери запру.
– Вот я тогда и приду к тебе, да и отчитаю его.
– Так-с.
– Кнутом-то, понимаешь?
– Понимаю, отец протопоп.
– Ну, вот и все. Потому это в нем дух дурости, а сей из таковых, как твой сын, наилучше кнутами изгоняется.
– А, может быть, отец протопоп, повременить еще?
– Пожалуй, это твое дело, повремени, – отвечал отец Савелий, и бедная просвирня с тех пор все временила, все боялась напоминать Туберозову об отчитываньи. Но Туберозов помнил сам это дело и не раз говорил просвирне: ты напрасно, вдова, медлишь; ты мне поверь, что он сего не минет, нет, он сего не минет.
Да и ни Туберозов, и никто другой не могли забыть об Омнепотенском и его мертвеце, с которым он постоянно демонстрировал, которого у него несколько раз крала и хоронила его мать, но которого он снова доставал из земли и снова выставлял на вид, на окно. Мучения старушки Омнепотенской были уже известны всему городу, и отец протопоп волей и неволей беспрестанно получал самоаккуратнейшие сведения об этой печальной вдовице и о терзаниях, претерпеваемых ею от хранимого сыном скелета. И справедливость требует сказать, что не одна Омнепотенская страдала от юродства сына своего, – страдал от него, может быть и еще более, отец Савелий. Несмотря на то, что он не совсем близко жил от Омнепотенских и с давнего времени избегал всякой встречи и всяких бесед с вольнодумным учителем, – история с мертвецом не давала ему никакого покоя.