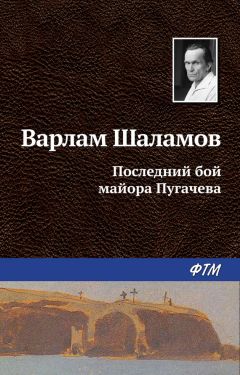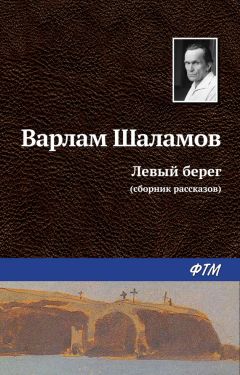Анатолий Найман - Каблуков
К середине уверенность, что худшее неизбежно, была уже ровно и безжалостно торжествующей. Однако то, что это в Африке, работало в двух противоположных направлениях. Африканское худшее, заведомо несоизмеримое ни с каким другим, заведомо подавляло своей беспредельностью и в этом смысле было самым убедительным на свете. Но то, что оно африканское, не могло не держать наблюдателя - Элика как читателя и Каблукова как его слушателя - на некоторой дистанции от действующих лиц. На той, какую устанавливает любая экзотичность. Африка затягивает и не отдает, африканская болезнь охватывает и не отпускает, еда неперевариваема, извергается желудком, солнце выжигает и тело, и зрение - зачем они туда полезли? Зачем они там? Это Аушвиц: та же пища, та же немощь, то же пламя, та же гибель. Но в Аушвиц заталкивают прикладами, и Аушвиц - это свой Запад, своя Европа, а Африка для не-туземца - место намеренное. Сахара - не земля, а мистическое пространство, плацдарм потусторонности. Французы могли там выращивать гомункула экзистенциализма, как в пробирке.
"Это единственное, что смущает даже у Камю в "Чужом", - сказал Каблуков Элику, - хотя "Чужой" - по-настоящему классная вещь. И все-таки: классная классная, а не пойму - обязательно мне проходить через этот коридор или нет? Нам всем, нам здесь. На Западе, явно, обязательно - это как у нас, к примеру, толстовство. Не прослушал курса, не переведут на следующий. Экзистенциализм, абсурд, изоляция, человек в пустыне, западный человек среди арабов, в Африке, в пустыне, в нигде - для нас смахивает на экскурсию в этнографический музей. То есть коридор оказывается музейным: поднялся на крыльцо, прошел насквозь, спустился с другого. Во мне бродит еретическая мысль, что мы можем пройти прямо от первого крыльца ко второму, не заходя внутрь. Наш экзистенциализм - это Красная площадь. Надо по ней проволочься снизу вверх, от плешки на месте снесенной Иверской часовни до Лобного места: к Василию Блаженному съедешь уже по закону гравитации. Сущности никакой существование в чистом виде. Полог укрывающего неба: азиатская основа, европейский уток".
"А вы говорите, венгр, таблетки, - сказал Элик. - Я получаю от вас то, чтo предполагал, что могу получить. Я не про сущность, на которую мне, как и всем, глубоко наплевать, а именно про это самое существование в чистом виде. Ведь ваша речь оно и есть. Не подход, а проход мимо. А тогда почему мне запрещается быть от этого в отпаде? - (Он до старости пользовался всеми новыми словечками молодых: "в отпаде", "в натуре", "клево", и у него получалось натурально.) - Я хочу сказать: почему это не может привести меня в блаженное состояние? А в таком случае разве мне не дано его стесняться? И разве потом я не могу устыдиться моего стеснения? И почему вы отказываете мне в желании скрыть от вас этот стыд? Если я хочу видеть в вас то, что вижу, или пусть только уговариваю себя, что вижу, от вас же не требуется под мое видение подлаживаться". Тоня повернулась к Каблукову и сказала: "Ну он такой человек".
В "такой" входило и то, чего она не хотела мужу говорить. На уроке танца Элик вел себя, настолько пренебрегая приличиями, так откровенно выставляя напоказ чувственность и в таких прямых выражениях все это оглашая, что для себя она решила найти тому объяснение в его наивности - остающейся на уровне детской. Кандид - и безо всяких вольтеровских усмешек. Он постоянно останавливал аккомпаниаторшу, и все уже знали, что последует: "Нет, нет, нет. Это не "гори-гори ясно, чтобы не погасло", это танго! Руки мужчин должны лежать на женских спинах, как на ягодицах". Он подходил к ближайшей и без тени стеснения проводил открытой ладонью по ее груди к плечу и за спину до поясницы и ниже до самого бедра, где принимал в широко расставленные пальцы валик плоти: сперва мягко, а потом медленно все крепче и крепче сжимая. "Вот так! - делал он плавный поворот налево, плавный полукруг направо, чтобы все посмотрели, где его ладонь, где женская ягодица. - Но это всего лишь то, что партнеры могли бы дать увидеть окружающим. На самом деле мужчина весь уже там, где женщина давно хочет, чтобы он был. Это танго - а не каватина Фигаро! Тa нжере, ласкать-и-трогать! Ла востра мизерu а нон ми танге. Что мучит вас, не трогает меня".
Ни разу не выбрал он Тоню, но она трепетала - когда-нибудь это может случиться, и как тогда себя вести. И от того, что не выбирает ее, тоже трепетала. И от того, что такое просто видит и слышит. И понимала, что никому третьему, включая мужа, рассказать про это так, чтобы не вызвать усмешку, не выйдет. Тем более что, вскоре сойдясь ближе с ними уже обоими, он так же откровенно рассказывал, как его однокурсницы приходят к нему, чтобы лишиться - или, если угодно, избавиться от - девственности. И он с первой минуты предлагает атмосферу, в которой приступить к самой теме, а потом и к делу им было бы совершенно естественно и уютно. При этом никогда сам не только не понуждает их ни к чему, но даже и не подталкивает. Просто создает атмосферу, а там: хотите - я с удовольствием, не хотите - была бы честь предложена... После его ухода Каблуков сказал: или он такой развратный и абсолютно бесстыжий - или будем считать это полным отсутствием лукавства. Но чего вслух не произнес, это что в первый раз в жизни столкнулся с человеком, у которого внутри было что-то замысловатое. Замысловато-темноватое. Не то, что намеренно прячут с целью скрыть, а непроницаемое - и почти настолько же для себя самого, насколько для посторонних. Валера Малышев, простая душа, колено в колено, носок в носок, прижал, прищемил, вытащил скрипку, снял смычком басовую ноту. И никакого ни перед кем восхищения, ни смущения, ни приступов стыда - кроме самых непосредственных, очень кратких: так сказать, примитивных.
XIX
С первого дня на Сценарных курсах втемяшилось в голову, что это продолжение моего детского сада. Если быть пунктуальным, двух: довоенного в Пушкине и первых лет войны в Камышлове. Город это или поселок, не понял запомнил только название - и вот детский сад. Потом уже был город - что именно Челябинск, не имело никакого значения: там началась школа, а школа, институт, работа встали в тот же ряд, куда и город, транспорт, озабоченность, серьезность, ничего общего с детством, с садами и с жизнью в детсаде. С медленным продвижением по улице парами. С аквариумом. С мертвым часом.
Искусственность предприятия, свойственная любой идее воплощения земного рая, выводила и детский сад, и курсы из действительности, заменяя ее быт, условия, условности, обыденность, обиход своими. Курсы преследовали три цели, соответственно имея в арсенале три силы. Накачивали навыками и энергией новые кадры индустрии - не скажу: сочинения, а лучше: составления сценариев для кино. Своего рода складывания мозаики из уже выпущенных в торговую сеть наборов. Накачивали идеологией, подталкивая к тому, как это надо делать, чтобы приемщик не не одобрил решения задачи. И выбивали дурь из голов безалаберных, предлагающих свои собственные наборы или даже бунтующих до, например, отказа от мозаики как метода и средства. Но это было то же, что дисциплина в детском саду. И там полагалось складывать кружки, кубики и буквы, и там разучивали песни не любые, а такие, и там ставили в угол и оставляли без киселя. На удовольствие, которое приносили минуты дня, или по крайней мере на приемлемость почти всех их это никак не влияло.
Аквариум был пустой, только вода, песок, камешки и водоросли. Вдруг воспитательница приносила в поллитровой банке рыбку с порванной губой, сын поймал в пруду. Назавтра рыбка всплывала вверх брюшком. Через неделю двух лягушек: дергали лапками, всплывали. Мальчик из старшей группы написал в воду, а потом раскрутил метелкой. В мертвый час его водили голого по спальням, чтобы осрамить преступную пипку, и на два дня лишили прогулки, он выл, как будто плачет, но слезы не текли. Все было великолепно, прекрасно, восхитительно, рыбка живая, мертвая, ножки лягушек, галька, подводные стебли, стеклянные стенки, желтая струйка, взвихренное и оседающее содержимое. Улица как расстояние от дверей до деревьев и обратно, смысл которого в том, что его нужно прошагать. Не спеша, без усилий, под нестрашные покрикивания воспитательницы. И мертвый час.
Его сладость я осознал много позже, первый раз в аккурат на курсах. Маленькие прохладные кровати, чистые, геометрически застеленные. Тишина большого помещения. Середина дня, которая, когда проснешься, при той же освещенности уже указывает на приближение вечера. Душистый вздох и жар собственной щеки при пробуждении. Легкий дымок отлетающего сна. И сама эта мертвость, смерть, прелестная, единственная такая - всего на час, длящийся пусть и два астрономических, но главное, что имеющих конец: смерть гарантированно отменяемая. Все это пришло на память в тот момент, когда я проснулся посередине американского фильма с Кэри Грантом, он там шулер и мошенник и становится мэром. Очаровательный. Собственно говоря, играть ему не надо было, просто поднимал бровь и прибавлял к своему несусветному обаянию птичий сарказм. Мы его в его годы, понятно, не видели, но физиономия такая, что впечатление было, что если что и знаем наверняка и с младенчества, то ее. Я подумал: а может, и правда, попадалась она мне малолетнему в снах мертвого часа? Попалась же сейчас. На это время, на три, по расписанию следовало, как правило, именно что-нибудь голливудское. В два был обед, после него мы приходили в зал сонные, погружались в широкие зеленые бархатные кресла, гас свет, и дальнейшее виделось одновременно во сне и на экране: одно в другое переходило без склеек. Черно-белое: черное, как смола, белое, как лебяжий пух.