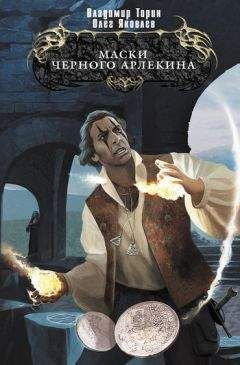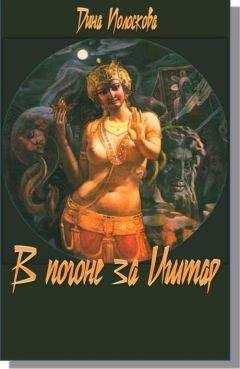Анатолий Лернер - Три дня в Иерусалиме
Гул затих. Я вышел на подмостки…»
2. Хамса
Над Вечным Городом занимался рассвет. И Той, стремительно перемещаясь в отведенном ему пространстве, вдруг осознал, что давно уже о чем-то говорит. Той прислушался к своим чувствам, они не обнаруживали ничего такого, что могло бы их потревожить.
— Стало быть, все идет нормально. — Произнес Я. — Полет продолжается, и я набираю высоту.
Посмотрев вниз, Я увидел, как внезапно, неподконтрольно, в нем проснулся писатель и журналист — и вот он, его репортаж! Его свидетельство о себе самом.
— Интересно, — подумал Я, — теперь слова Тоя мне становятся более понятны.
— И я понял, всю торжественность этой минуты, — говорил Той. — И едва я это осознал, я уже не был им. — Той показывал пальцем куда-то в небо, где теперь находился Я. — Он стал мною. Это был Он. И не важно как я его назову, и не важно как его назовете вы. Это был — Он.
— Свидетельство пиджака о хозяине, — улыбнулся Я, набирая высоту и продолжая пребывать в сознании Тоя.
— И я решил отдаться этому Городу, — говорил Той. — Отдаться той силе любви, которую Город направил мне навстречу.
— Это правда, — засвидельствовал Я, и направил всю свою любовь навстречу Городу. И едва ли Той заметил, как в его дыхании произошел тот самый поворот от вдоха к выдоху, который и заключал в себе всг знание обо всем, как Я тут же почувствовал невероятный прилив энергии.
— Это Город салютует мне. Он узнал меня.
И он признал меня. Он признал во мне равного. Будучи сам любовью, он признал мою любовь…
Вдруг Я насторожился.
— Город не признал во мне ни Иисуса, ни Будду, ни нового Мессию. Говорил Той. — Он просто признал меня.
— Скромнее надо быть, — послал Тою привет Я.
— Он признал во мне и Христа и Будду. — Выкрутился Той улыбаясь, явно льстя своему Я. — И я люблю этот город.
Я люблю его, хотя еще не знаю его. Как не знает его и тот, кто будет свидетельствовать о себе в нгм как о заступнике. И ему и мне предстоит узнать его. И меня и его предстоит узнать — Ему.
— Интересно излагает, — подумал Я.
— Мы братья. Мы плод одного семени, мы нечто единое, — продолжал Той, тогда как Я уже был далеко от него и знал, что в это мгновенье Той снова далек от правды.
А правда заключалась в том, что ощущать себя богом нужно. И делать это не от случая к случаю. В этом состоянии человек обязан пребывать всегда. Чтобы любить по-божески, жить по-божески, чувствовать по-божески. И не говорить, что ты стоял лицом к Иерусалиму, а рассказывать, что ты чувствовал, стоя к нему спиной… — В это время Той, прячась от ветра, прикуривал сигарету. — Это есть осознанное рождение. То, которое ведет человека в бессмертие. — Говорил Я.
Той зашел в теплое помещение, с желанием прикурить сигарету. Удовлетворенно выпустив длинную струйку дыма, он снова повернулся лицом к Городу.
Какое-то мгновение он упустил, пока прикуривал, и теперь ему показалось странным то, что со стороны города потянуло чем-то теплым, похожим на дыхание Лики.
Той подумал, что по сути, ему ничего не нужно придумывать. Все ведь и происходит на самом деле так, как он видит, как понимает и как осознает себя в этой пьесе. Здесь, в этой своей пьесе, он может стать героем, а может выбрать себе роль статиста.
Падали листья, и Той слышал их редкие шлепки сквозь многоголосье ветра. Тою было странно слышать их. Ему было странно, что он их слышит вообще. В эту минуту Тою казалось, что он слышит не только шорох листьев, но он готов был поклясться, что слышал и биение сердца Города. Впрочем, это стало возможным лишь потому, что его собственный пульс совпал с вибрацией Города. И в небе Той увидел облака. И это были не просто облака, разбросанные по дышащему холсту кистью обалдевшего художника. Это были иные облака.
Облака, превращающиеся в далекие берега. В тот самый берег, с которого спускалась в этот мир Любовь. И небо было тем морем, что разделяло эти два берега. И небо на своих волнах сближало эти два мира. Мир, в котором находился Той, стал стремительно сближаться с иным миром. Миром, в котором пребывал теперь Я.
И когда узкая полоска стала превращаться в лезвие бритвы, и на том месте, где произошел неизбежный порез, занялся алый шрамик рассвета, Той понял, что человеку, оставаясь таковым, преодолеть эту полоску на стыке двух миров было бы просто невозможно. И это был воистину взгляд Бога со стороны.
И Той вернулся на землю. Той вернулся туда, где он был стражем. И Я вернулся в охранника.
Охранник сидел на мраморном полу хозяйственной пристройки и вздыхал. Он этой ночью был так близок к Богу. Ему очень хотелось туда, на тот берег. Хотелось, несмотря на то, что переход туда пугал.
Пугала смерть.
Оказалось, что сегодня охранник испугался. Испугался умереть. Нет, он не боялся умереть вообще. В принципе. Он испугался умереть сейчас. Ему казалось, что он пока не готов умереть. Что не сделал он чего-то самого главного, без чего его смерть не будет иметь никакого смысла.
В нем испугался писатель, который не успел поведать миру о своей любви к нему. Своей любви к миру. Любви к миру по имени Лика.
В нем испугался писатель, и писатель радовался тому, что пока еще, оказывается, у него есть время…
Есть время исправить то, что он наворотил в своей собственной жизни. В своем собственном, только ему принадлежащем мире.
Есть время успеть, постичь, познать и те миры, что открыли свои души ему навстречу.
У него было это время.
И время это — от восхода и до заката…
Рассвет давно уже занялся, и предутренние сумерки возвращали в этот мир божественные краски жизни.
У Тоя непостижимым образом прорезался иврит, и он, резвясь, произнес:
— Тода раба эт ха Исраэль. Ба алия».[1] — И неудержимо стал хохотать.
Тоя потянуло к людям. Да это и понятно, богов тянет к богам, а человека — к людям.
— Прекрасное утро, — поприветствовал Той медсестру.
— Да, утро и вправду прекрасное, — ответила она. — Ты что не спал совсем? — Спросила сочувственно она.
— Нет, не спал.
— Почему? — Удивилась она.
— Иерусалим. — Выдохнул заклинание Той.
— О да! — Воскликнула медсестра.
— Я впервые здесь, — пояснил Той.
— Тогда понятно. — Сочувственно улыбнулась она. — Ну и как?
Вместо ответа Той кивнул в сторону восхода. Медсестра кинула взгляд на восток и выдохнула: — Эйзе кейф![2] Она стояла с влажными волосами после утреннего душа, забыв про утренний озноб, забыв обо всем на свете, — и смотрела на восход.
— Когда взойдет солнце, — сказала она, — будет еще прекрасней.
— Я впервые встречаю рассвет над Иерусалимом, — повторил ей Той.
— О! Милый, как я тебя понимаю! — Произнесла медсестра и звякнув серебром магических амулетов, поспешно удалилась по своим неотложным делам. — Магия Города! — бросила она напоследок.
Глядя в след медсестре, Той подумал, что для нее-то как раз эти места не Бог весть что. Они изрядно примелькались, а любовь обрела силу привычки. Привычки же разнообразил, как умел, изобретательный ум человека. И даже те, кто еще что-то помнил, или что-то знал о магии Вечного Города, почему-то постоянно забывали о предосторожности в обращении с его энергиями. А забывая, люди попадали под воздействие сил, устремленных ото всюду к этому нескончаемому источнику. И становились, сами того не понимания и, быть может, не желая, потоком, противодействующим своему естественному устремлению.
Поток толпы, эта невероятная по силе воздействия на человека машина, из любого могла сделать свое подобие, усыпляя, убаюкивая в человеке, то беспокойство, которое бросало его наперерез обезумевшей толпе. И тот, кому казалось, что жизнь его, наконец-то, изменилась, и он гребет против течения, погружался в сон внешнего благополучия. И в этом сне он видел, что плывет против течения. А коварные силы обволакивали его новыми иллюзиями, которые становились человеку сна еще более милыми и более дорогими. И вот уже человек не стремится, не беспокоится. Он попросту расстается с теми мирами, как с ненужными иллюзиями, в которых человеку находиться опасно. Силы, закрепившие в его сознании страшную ложь о нем самом, теперь уже сами господствуют в мирах, которые как неотъемлемое право, принадлежат самому человеку.
Той подумал, что в своем благочестивом сне, в котором люди видят себя проявляющими усердие в стремлении к Богу, они не уследили за чем-то. Не увидели они, не узнали главного.
Здесь не помнили того, кому все же была обещана божественная помощь.
Здесь забыли и то, кому является Бог. И потому, каждый раз расступаясь, они упускали Его. Упускали, потому что желая встретить Его первыми, они обращались спиной к тем, ради кого Он являлся на Землю.
…Они расступятся. И увидят Его, обращенного не к ним, праведникам, но к падшим. Они расступятся и увидят Его спину. И так же, как их безразличные спины всегда были обращены к тем, кому предстал Он лицом Своим, так и тогда он обратит к ним не взор Свой, но усталые плечи.