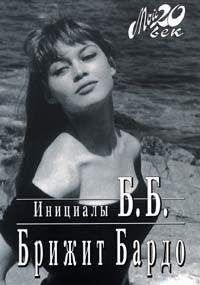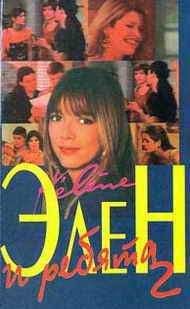Александр Левитов - Газета в селе
-- Но! Но! Волк тебя заешь, -- стращал он своего меринка, которому, видимо, хотелось еще постоять на теплом месте и отдохнуть.
-- Смотри, брат, -- еще раз крикнул солдат издали. -- Будь осторожен. Видишь, уж начинается, -- видишь, как она лошадь-то попридерживает. Это завсегда так бывает. Переложи-ка получше промеж ноздрей меринка-то изловчись да чесани его хорошенько, она тогда, может, на минутку и посократится...
III
На другой день ранним утром, едва-едва только успело пройти в поле крикливое сельское стадо, а уж дьячок и исправляющий должность наставника при училище в селе Разгоняе сидел в переднем углу своей новой горницы, облокотившись на стол руками, и во что-то пристально вдумывался. Подле него с самым тревожным видом стояла дьячиха. Время от времени они таинственно о чем-то перешептывались.
-- Так как же? -- спрашивала дьячиха.
-- Да как? -- отвечал муж. -- Я, ей-богу, не придумаю, -- всю ночь глаз не сомкнул. Хорошо бы, если бы эдак было: ехал, примерно, какой-нибудь большой чиновник через наше село, узнал про мое рвение и донес по начальству; а начальство в виде награды и дальнейшего поощрения и выслало мне его... не в пример прочим, -- понимаешь? Так-то бы хорошо, а то, пожалуй, распечатаешь, а она тебе сейчас: лишить его, скажет, и дьячковского и наставнического места! Чудна ты, погляжу я на тебя, как это ты ничего не понимаешь: ведь она вся, как есть, печатная... Ну, будь что будет! Бог не без милости! -- проговорил наконец дьячок с отчаянною решимостью после некоторого молчания. -- Давай умываться да посылай за полштофом. Нечего, верно, делать-то, потому тут вникать надо...
Дьячиха, всегда противоборствовавшая посылке за полштофом, на этот раз с видимой охотой зазвонила ключами и принялась, секретно уткнувшись в длинный зеленый сундук, отсчитывать пятаки и гривны, потребные для приобретения полштофа. Дьячок между тем, успевший уже умыться и с особым усердием помолиться богу, облачился теперь в праздничное полукафтанье и потом снова уселся в передний угол, где вместе с различными церковными принадлежностями, как-то: требником в переплете из толстой черной кожи, закапанной воском, бутылкой с деревянным маслом, смиренно притаившейся в самом темном уголке, -- вместе, наконец, с узлом ветхих риз, вышедших из употребления, -- лежал и вчерашний тюк, который с такою опасностью для своей жизни притащил к нему из города Лука. Над всем этим любопытно свешивались с домашнего иконостаса прошлогодние вербы, красные святовские яйца в вырезных из разноцветной бумаги вяхирях и пучки разных высохших цветов и благовонных трав, которыми старшая дьячковская дочь с таким искусством и любовью убирала домашние иконы. Сидел дьячок на своем хозяйском, насиженном месте и тревожно думал: чем все это кончится? А в окно уже начали западать первые лучи восходящего солнца, и так ярко осветили они перед ним его светлую, новую горницу с ее незатейливыми удобствами, с ее добришком, копленным целые тридцать лет, что все это показалось хозяину несравненно дороже того, чем на самом деле было, и он еще пуще задумался.
"Что, ежели в самом-то деле, -- мелькало в его голове, -- распечатаю, а там скажут: а дьячок села Разгоняя за грубость и за пьянство посылается в монастырь на полгода на послушание, и впредь его никуда не определять.
Толстый тюк смотрел на него в это время и насмешливо и сердито за один раз.
-- Матушка царица небесная! Спаси и помилуй! Не для меня, а детей малых ради!
-- На вот! -- сказала наконец дьячиха, ставя на стол полуштоф. --Только, ради бога, муж, гляди, не очень чтобы часто прикладывайся к нему...
-- Такой ли случай? -- вскрикнул дьячок. -- Не больше как для прочищения мозга хочу выпить, а она про прикладыванье...
Тут он, благословясь, хватил большую чайную чашку водки, крякнул и принялся осторожно разрезывать рогожу, в которую был упакован тюк. По долгом и тщательном обделывании этого дела оно наконец, как и всякое дело, кончилось; все веревочки обрезаны, рогожа и толстая холстина облуплены, и ждущим глазам дьячка представился объемистый пакет с палатской печатью и с такого рода почетною надписью: "Господину исправляющему должность наставника Разгоняевского сельского училища, почтеннейшему клирику Архипу Вифаидскому".
-- Вот так-то! -- с чуть заметной улыбкой и чуть слышно проговорил чтец. -- Господину исправляющему должность наставника и почтеннейшему клирику! Из самой-то губернии!.. Дождись-ка поди другой кто. Н-ну-с! --почти уже совсем отдохнув, произнес он, наливая еще водки в чашку. --Распечатаем с божией помощью.
"Достоуважаемый г. наставник! -- значилось в самом пакете. -- Европа исстари смотрела с завистью на наше пространное отечество... его неисчислимые богатства... а также и всеобщее рвение к просвещению, которое в нынешнее время, когда и проч. А посему, надеясь на ваше просвещенное внимание, прилагаемые при сем экземпляры "Столичных ведомостей" всеми зависящими от вас средствами и проч. Затем навсегда есмь ваш и проч."
-- Гм! Что ж такое? Это дело не грешное! -- проворчал дьячок с немалым достоинством, расположившись к нему величественным и вместе с тем в некотором роде даже почтительным слогом письма. -- Налей-ка мне, жена, еще безделицу винца-то. Надо тут ум да ум...
-- Смотри ты, -- умоляла жена. -- Не много ли? Будь ты, ради Христа, осторожнее. Про детей вспомни... На кого их оставишь?
-- Отстань! Видишь ли, что тут печатью изображено? Прочитай, ежели разберешь: "Господину исправляющему должность наставника" и проч. и проч. "Архипу Вифаидскому". Д-да-с! Ведь это печать, а не скоропись. Постигни.
-- От кого же это?
-- А уже это не твоего ума дело. С тобой ежели до гроба разговаривать об этом, так ты все-таки не поймешь ни словечка, потому что тут вся наука, -- и при этом дьячок самодовольно щелкнул пальцем по "Столичным ведомостям".
Дьячиха обиделась за этот разговор и, желая в то же время доказать супругу свою понятливость, спросила:
-- Война, что ли?
-- Ну, с тобой не сговоришь, -- сказал дьячок. -- Поди-ка ты лучше пошли работника в училище, чтобы он сказал там: ребятишки, мол, ступайте по домам, -- ныне ученья не будет, да чтобы отцы беспременно сейчас к моему дому собрались -- бумагу из губернии слушать. Беспременно чтобы собирались, а то, скажи, беда им будет. Учитель, мол, за непослушание в губернию отпишет.
Скоро вслед за этим распоряжением по улице звонко разнесся оглушительный гам юных питомцев Архипа Вифаидского. Быстро разбегаясь по улицам, одни из них безмерно радостно вскрикивали: "Ученья нет! Ученья нет! Ноне мастер праздник сделал" -- а другие, сознавая важность возложенного на них дьячковским Кузьмой поручения, усердно орали:
-- Собирайтесь к нашему мастеру бумагу из губернии слушать. Из самой губернии та бумага пришла...
-- Она вчера дяде Лукашке совсем как живая являлась... Он ее вез в телеге, а она вырвалась от него да к дьячку-то пешком и пришла...
-- Что врешь-то?
-- Нет, я не вру. Это ты все брешешь-то. -- И маленькие кулачишки загуляли. Большая суматоха пошла по селу, когда матери выбежали разнимать сразившихся ребятишек. Только одна улица не меняла своего обыкновенного, унылого вида; стояла она по-всегдашнему безмолвная и печальная и тому, кто слушал, грустно шептала:
"Господи! Хошь бы ребятишек-то моих дьячок отучил полыскаться ни за што ни про што!.. Да где уж ему? Радость такая долго, поди, моего сиротского лица не украсит!.."
IV
Если не море, так по крайней мере целое озеро лысых и косматых голов волновалось у дьячковского высокого крыльца, изукрашенного узорчатыми перилами и роскошно прикрытого свежей, гладко причесанной соломой. В растворчатые окна дома толпа ясно могла видеть, как дьячок стоял перед зеркалом и расчесывал большим костяным гребешком свои длинные волосы.
-- Зачем повещали? -- спрашивал у всей толпы зараз седой сгорбленный старик. -- Ко мне внук прибежал, говорит: "Иди скорей, дед, к дьячкову дому, а то беда будет".
-- Говорят, книжка какая-то из Питера пришла, и будто та книжка живая. Выведет ее дьячок к нам, а она сейчас скажет: "Здравствуйте, ребята! Садись-ка все да учите меня". Всех будет учить.
-- Что ты?
-- Ей-богу! Она уж про все это с Лукашкой толковала, когда он ее из города вез. Ты вот спроси у него.
А Лука между тем, осажденный со всех сторон тысячью вопросов, решительно растерялся.
-- Что же она тебе, как являлась-то? Ты расскажи: говорят, она пишшаньем пужала тебя?
-- Нет! про это что грешить. Пишшать не пишшала, а так это быдто белое что-то завиднелось под вешкой, только я вспомнил, как мне солдат говорил, так сейчас же и сделал. Оно тут же и разошлось.
-- Как же она расходилась?
-- А так все эдак кверху, кверху, ровно бы турман, только не в пример больше будет турмана-то...
-- И руками махала?
-- Махала тоже и руками, -- удовлетворял Лука. -- Жалостно эдак махала, прощалась бы, што ли, с кем...
-- Смотри, парень, не околей! -- предположил кто-то в толпе. -- Это она с тобой, знать, прощалась-то.