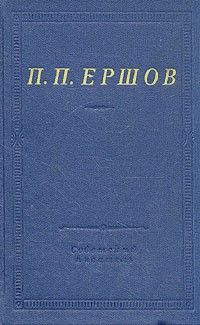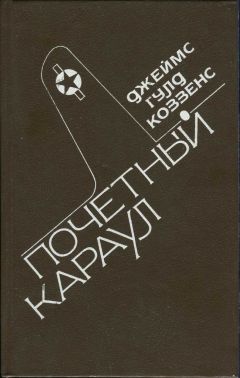Роман Перельштейн - Конек-горбунок
- Вот зачем мне сейчас такие карты?
Мать делает разочарованное лицо.
- Я хожу или ты?
Она не отвечает.
- Ты. Я взял.
- А ходить нечем, - роняет смешок.
- Дама?
- Дама.
- С дамы?
- С дамы, с дамы, - кивает она. - Тетя Лариса вчера позвонила. Ну все, прошли они таможенку. Закажут каюту и оформят птенца. Ромочку сегодня узаконят.
- Так они и попугая берут?
- Конечно, все со своей скотиной едут. Нужно взять справку и его зафиксировать.
В Израиле попугай улетит. Мама и выпустит.
Потом она будет звонить, бурно делиться радостью:
- Купили Ромочку нового, желтенького, а он все голубеет и голубеет. Такой дикарь худой! Типичный израильтянин. Говорить не хочет.
Но это будет еще через месяц, а пока мы ждем трех вещей - министра, затмения солнца и конца света. Но министр все не едет, а затмение, если верить газетам, мы даже не почувствуем.
- Отец звонил. Сказал, что в мире оказалось много сложностей. Война, возраст.
- Перевожу.
- Сказал, чтобы я думал не только о своей заднице, но и о своей семье. Говорит, учи английский и сматывай удочки, пока не поздно.
- А ты?
- Слушаю. Десяточка.
- Но делаешь по-своему?
- Взял.
Я не говорю матери о том, что отец купил вторую машину. Одной они уже не обходятся. На первой машине будет ездить его вторая жена, а он будет ездить на второй. Немного сложно.
Я был у отца осенью. Мы съели горсть фиников и зашли в море. Волны радостно бросались, обвивали нас и сползали к ногам. У меня дух захватывало, хотя я уже не меньше восьми раз приходил на берег. С какой же неистовостью море боролось за нас! Морю бы только сожрать. Превратить меня и отца в соль, в брызги. Как тихо подкрадывалась волна, как сильно била в грудь, как умоляла дать еще попытку, как манила в зеленую гулкую пустоту! Удар за ударом, мольба за мольбой.
- Ну и так далее, - улыбнулся отец.
Он отлично выглядел. Густые африканские кудри, бронзовый живот, мягкая львиная поступь. Он производил впечатление человека, принявшего решение...
На шкафу громоздятся вазы, которыми доплатят за Ириску. Под вазами набор мельхиоровых ножей, керамический Годунов, стопки старых журналов, бутафорские уши Конька-Горбунка, сработанная под финский домик сигаретница из березы, пропасть пыльных предметов.
Громко тикают часы. Гусеница тычется личиком в увеличительное стекло.
Отец с матерью разошлись пятнадцать лет назад. Конечно, мать едет не к нему, а к своей матери, но для меня она едет к нему - в маленькую воюющую страну.
Теперь хоть понятно, почему я женился дважды. Наследственность. И причем по отцовской линии.
- Давно хотел спросить. В какой день я родился?
- Так, - мать поправляет очки, - твой отец ушел на лыжах. Значит, это была суббота.
Застеленная пледом, лохматым и толстым, как дерн, тахта. Ее подарили на деревянную свадьбу. Семейное предание гласит: "Пришли Хакимовы, принесли кровать - двуспальную, как не знаю что". Так сказать могла только она. Над тахтой гобелен со снегирями. В изголовье плед вздымается, под ним курган из подушек. Где-то в складках пледа дачный домик. Отец снимает стружку с пахучих сосновых досок.
Бедный, загнанный мой отец. Вечно он смотрит на меня с читательских билетов. Где я только эти билеты не находил! И в баке с бельем, и в рисовой крупе, и в мешке с гвоздями.
У отца никогда не было земли. В наследство он оставил мне книги, дачу и колоду карт. На короля ставили чайник, валет закапан парафином, семерка пахнет лимонадом. Отец уехал вбить первый колышек. В землю колышек. А может быть, в камни?.. Камни земли предков, они еще нескоро задышат. Когда еще дом, который построит отец, забудет русскую речь? Ведь, пока речь будет звучать, камни будут молчать, земля будет землей дачников. Это какое-то проклятие! Умрет речь, - и оживут камни.
Матери колышек не нужен. Ее колышек - балетный станок. Ее земля деревянный некрашеный пол, который поливают из большой жестяной лейки.
Вошла. Хлопнула в ладоши. Привела воспитанников в трепет. Замелькали белые юбочки, метнулись белые шорты. Тонкие шеи, горящие глаза. Их можно было принять за рахитиков, если бы не эта грация породистых щенков, солдафонская выправка. Все как один они готовы за нее умереть.
Мать отчитывала ученика:
- У тебя мозги вразлет! Ты не можешь собраться.
Мальчишка стоял перед огромным зеркалом, уткнув подбородок в грудь.
- Где рука? Где нога? Где моторная память? Ты понимаешь, как нужно думать, как нужно запоминать?
Мать одернула морковную кофточку. Смягчилась:
- Ну скажи, что такое моторная память?
Мальчишка насупился и, крепко подумав, ответил:
- Это когда мозги вращаются по часовой стрелке.
Мать расхохоталась грубым мужским смехом. Она была на седьмом небе...
- Карася будем проверять? - спрашиваю я.
Мать трагически качает головой.
- Умоляю, не напоминай...
Утром она позвонила мне:
- Гостей было, ты не представляешь! Жаль, тебя не было.
- Оливье остался?
- Ты что? Все подметено под нулевочку.
- Хорошо посидели?
- Нет слов! Сынок, сейчас мне котлеты делать. Яйцо вколотить как штык надо. Я тебе перезвоню.
Через полчаса раздается ее разочарованный голос:
- Я купила у государства килограмм пельменей. Самых дешевых, самых плохих. Дала Малышу. Он сначала с готовностью схватил. Потом как-то весь слинял с физиономии и доглотнул уже без всякого настроения.
- Дай ему семечек.
Но ей было не до шуток.
- А голодные времена? Хорошо, что он булку ест.
Я усмехнулся.
- Ну что ты, большое дело! - подчеркнула важность обстоятельства и начала смеяться. - Ну все, я тебе перезвоню.
Не прошло и четверти часа, раздалась телефонная трель.
- Ужас! Соседка принесла двух карасиков, а они живые. Я не могу живого чистить. Я налила таз и пустила их в таз. Один умер, а один плавает. Без еды! Ты не знаешь, что они любят?
- Червяков, - предположил я.
За неделю до отъезда из страны маму стало интересовать, что едят караси? Я пообещал заглянуть, проверить рыбу, но меня опередил Станислав муж ближайшей подруги. Он пришел отвинтить полку, которую, кроме этого человека, никто в мире отвинтить не мог. Станислав заглянул в таз, хмыкнул:
- Надо по башке дать.
- Да ты что, Стасик?
Стас треснул - карась поплыл вверх брюхом.
Станислав отвинтил полку, выпил сто грамм и ушел. Мать долго не решалась приблизиться к тазу. А потом смотрит - карась оклемался...
Она откладывает карты, подкрашивает губы. Все-таки мы ждем министра. Мать должна выглядеть.
- С этой челкой я до старости щенок. Серьезные люди челок не носят.
Однажды ей исполнилось шестьдесят. Все удивились. Пятьдесят с хвостиком - вот ее возраст на каждый день, а по праздникам не всякий даст и сорок пять.
Она до упора выдвигает помаду, наносит последний штрих.
- Я ее как сливочное масло съела. Легкая. И вроде что-то есть, и вроде чего-то нет. Мне так и надо все. Пастельное.
С улицы доносится вопль соседского мальчишки:
- У нас даже конца света не будет видно! Вообще оборзели!
Он прав. Луна как-то неправильно закроет солнце.
На прикроватной тумбочке настольная лампа с наглой кнопкой, салфетка и мемуары Айседоры Дункан с простым лицом великой американки на обложке. Мать любит следить за поворотами чужой жизни...
Он провожал ее и вдруг сделал предложение. Она улетала в Одессу, улетала насовсем. И мать сдала билет. А если бы она улетела? Если бы моим отцом стал другой? И вот я думаю, был бы тогда я - я? Или я был бы кем-то другим? Так же шел бы дождь, светило солнце, а я был бы кем-то другим. А может быть, я и есть другой? Может быть, мои истинные родители так и не встретились?..
Отец и мать снятся мне. Причем в лесу. В лесу они всегда истинные. Сквозистый, ломкий воздух осени. Вот отец - с рубанком и нотами. Вот мать с белкой на голове. И где-то есть я, но я себя не вижу.
Она всегда так радовалась белкам, что, мне кажется, только ради этого и стоило создать мир...
На часах три пятнадцать. Балеринка сидит на воздухе с вытянутыми ножками. Гусеница далеко отползла от вазы. Она свернулась калачиком и забилась в ворох квитанций. Замолкают птицы. Становится холодно. Гладиолусы туго затягивают белые капюшоны. Ириска прыгает ко мне на колени. Малыш виновато забирается под стул. Внезапно останавливаются часы. Дымчатая тень медленно ложится на обшарпанные половицы. Тень ощутимо и необъяснимо движется. Тень зашторивает пейзаж в багете. Акварельный лес погружается во мглу. Тень наползает на пятилитровый таз. Контуженный карась с перламутровым глазом замирает. Тень крадется по дерну пледа, накрывает дачный домик, излучину реки. Мрачнеет керамический Годунов. Годунов сбрасывает царский червленый кафтан, достает из живота блестящую трубу. И не Годунов это уже, это ангел бездны Аваддон. И подносит ангел бездны трубу к обиженным вишневым губам.
Я оборачиваюсь. За спиной стоит министр. Он раскинул руки и его бежевый плащ с болтающимся поясом закрыл солнце.
![Найо Марш - Зеленоглазое чудовище [ Венок для Риверы. Зеленоглазое чудовище]](/uploads/posts/books/159005/159005.jpg)