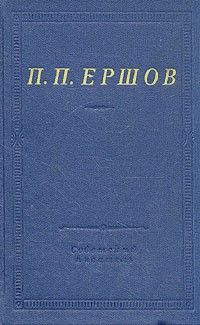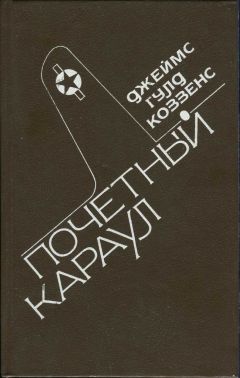Роман Перельштейн - Конек-горбунок

Обзор книги Роман Перельштейн - Конек-горбунок
Перельштейн Роман
Конек-горбунок
Роман Перельштейн
Конек-горбунок
Рассказ
Автору 38 лет. Живет в Казани. Окончил Литературный институт.
Свет пробирается в комнату вором. Его сообщники - хрусталь, золотые каемки рюмок. На столе ваза с гладиолусами и бутылек "Альмагеля" в белых подтеках суспензии. Тут же телефон, игральная колода, лупа, медаль "Ветеран труда" с отлупившейся на серпе эмалью, пара капроновых следок, ворох квитанций.
На циновке развалился Малыш, он же Рыжик, он же Чарли. Малыша знают все. У него несколько хозяев, а он ничей. Мать отчитывает Малыша:
- Зачем вчера к гостям приставал? Ходил, клянчил, клал руки и ноги на колени.
Мать берет меня в свидетели:
- Он одной колбасы тысяч на десять нажрал. Подлец! Но все нашли, что он очаровательный.
Пес понимает: говорят о нем. На всякий случай лупит по полу хвостом.
- Когда он был маленький, у него была прелестная улыбка, очаровательные глазки! Он меня этим подкупил. А теперь - кобелина. Ни разу не стираный, ни разу не выжатый.
Малыш скрипуче зевает. Я смотрю на часы.
- Министр-то не едет.
Мать надевает очки.
- Приедет.
- Может, он испугался Малыша? - спрашиваю я.
Мать тасует карты.
- Ну что ты, он на машине.
- Малыш-то не на машине.
- Что?
Мать смотрит на меня растерянно.
Серо-голубые обои, серебряные челки узора. Справа завешенная ворохом юбок дверь. Юбки с тыла двери. Они не видны, когда дверь открыта: маленькая женская хитрость. Слева - пейзаж в багете. Художник ухватил суть дождя. Фиолетово-грозовое небо, высокий береговой лес, пронизанная острым и тяжелым, как стекло, светом речная даль.
Малыш переворачивается на спину. Подхалимски скалится и бьет по полу рыжим кренделем.
- При чем здесь ты и твое пузо сегодня? - грозно спрашивает мать.
Я смеюсь.
- Ну да! - Мать смягчается. - У нас сегодня совсем другой день и другое настроение.
Она пытается собраться с мыслями. Сдает карты.
Мы гладим Малыша пятками и играем в переводного.
Посередине стены восьмиугольные часы с круглым синим циферблатом. Изображена на циферблате балерина со скрещенными ножками и трагически-задумчиво вознесенными руками. Ось, на которой крепятся стрелки, расположена так, что без пятнадцати три балерина садится на шпагат.
Из-под тахты вылезает кошка.
- Ирисочка, девочка моя, иди сюда! - Мать слюнявит палец, чтобы разлепить карты.
Ириска крадущейся равнодушной походкой чешет мимо. Задевает хвостом нос Малыша. Пес провожает кошку перевернутым, сузившимся от блаженства глазом...
Когда мать идет на работу, она засеивает мостовую семечками подсолнуха. До автобусной остановки ее сопровождают голуби и воробьи. Слева и справа от нее плещутся крылья разнокалиберных птиц. Она поцокивает каблучками, подчеркнуто интеллигентно сплевывает шелуху и разучивает в голове урок, который преподаст голенастым воспитанникам хореографического училища. Вокруг шеи повязана шелковая косынка, аромат которой слышен за квартал. Рыжевато-каштановые жесткие кудри подрагивают в такт четкому шагу. Точеный носик, тонкие и высокие карандашные брови. Взгляд отсутствующий и в то же время цепкий. Чем быстрее она лущит подсолнух, тем глубже погружена в мир сцены. При этом рука ее не забывает отлетать в балетном движении и щедро одаривать порхающую братию.
Тут-то и появляется он - гроза подъезда, ужас улицы. Руля хвостом и поднимая пыль рыжими шароварами, Малыш разгоняет пернатых. Мало того, он сметает с мостовой жареные семечки: все, что обронила хозяйская рука, должно немедленно исчезнуть в его утробе.
- Он же ест семечки! - жаловалась мать. - Он же ест семечки! Это что за пес? Птиц, - закипала она, - нацеленно ненавидит!
Как-то он бросил в ноги голубя. Полуживого, с перекушенной шеей. Мать закричала, взмахнула руками и помчалась по улице. Малыш схватил голубя, забежал вперед и снова бросил перед ней.
- Оттяпать бы башку твою дурацкую! - возопила она.
Так они и бежали до остановки. На мать все оглядывались...
Бывший министр явился на прошлой неделе. Оглобельного роста, лысый, в дым и прах отутюженный. Он подошел к матери, протянул ладони размером с десертные блюдца, согнулся пополам и поцеловал руку.
- Я помню вас в роли Конька-Горбунка, - осклабился министр. - Вы были звезда!
Мать отыграла: расхохоталась, плюнула в ладошку и зачесала свой поникший чубчик.
Министр раскупорил бутылку шампанского, вынул из кармана деревянные рюмочки, расписанные под хохлому, и предложил тост за кадры.
- Что же вы, матушка, уезжаете? - пожурил он. - Татарстан таких первоклассных невест теряет.
Затем он огляделся и предложил выпить за ауру квартиры.
- Аура, - поддержал я министра, - это, пожалуй, единственное, что здесь есть.
Министр торжественно прошелся по комнате, скрипнул всеми половицами.
- Район у вас тихий. Этаж второй. А что? Мне подходит.
Он почтительно заглянул в кладовку, подергал себя за ухо, снял со шкафа керамического Бориса Годунова, перевернул, дунул в полый ствол ноги, извлек потусторонний звук, вернул Годунова на место, сложил в карман рюмочки, многообещающе раскланялся и исчез.
Очередной покупатель. Интересно, увидим ли мы его еще?
Между пейзажем и часами - буренка с сигарой. Монструозная, ненормального окраса корова в розовом комбинезоне. Игрушка висит на гвоздике и дико смотрит.
- Мам, ты не забыла? Сегодня конец света.
- Да помню я, помню. Кто бился?
- Я.
- Ну так бери!
Карта не идет. Ни мне, ни матери. И министр не едет. С букета валится на стол гусеница.
- Вот дурочка, - хмыкает мать, глядя на гусеницу поверх очков.
В окулярах отражаются крыша дома, что напротив, плоская труба вентиляционной шахты и продырявленная солнцем туча.
- Градусник не забудь. Валет.
- Дама. Что, в Израиле градусников нет? Еще кокну.
- Валет. Ну я не знаю.
- Дама. Я играла ртутью. Катала ее в грязи. Разбивала на шарики, перекладывала из руки в руку. Это было так интересно! Откуда я знала, что нельзя? Ребенок. Да, - ежась, вздыхает она. - Уродики выросли полубольные, полу- не знаю какие.
Гусеница нюхает таблетку валидола. Громко тикают часы.
В круглом зеркале - полка с кофейным набором и трогательными дешевыми сувенирами, этакими входными билетиками в рай: парафиновый гном, фарфоровый колокольчик.
Кошка ходит по подоконнику и трется о раму. Она совершенно дикая, хотя и домашняя, неблагодарная и больная.
- Вчера было десятое? Ну все! Значит, десятого октября ждать котят. Один раз, один раз забыла форточку закрыть! Прихожу, лежат вдвоем на кровати. Как тебе нравится? Убью этого Маркиза!
Маркиз - бывалый подъездный кот. Ириска - второй сезон дама его сердца.
- А ты ей обезроживающее не давала?
- Конечно, нет.
Я внимательно смотрю на кошку.
- Может, возьмете Ириску, сынок?
- Нет, мам. У нас младенец. Нам еще котят!
- Ее никто не хочет брать, - соглашается мать. - Никто. Что это? Крести? - Подносит к очкам карту, жмет плечами. - У всех есть какой-то Барсик. Или аллергия на Барсика, или Барсик.
Когда придут покупать телевизор, мать отдаст Ириску вместе с телевизором, приплатив хрустальными вазами.
- Ты зачем раздал мне такую гадость? Ты карты мешал?
- А я чем занимался сейчас?
- Не знаю.
- Мешал, конечно. И вышло опять крести валет.
- Ну, значит, перемешал лишнего.
- А-а, - киваю, - значит. Ну как тебе нравится, та же карта!
Длинная глухая капитальная стена, вдоль которой стоит секционный, со множеством отделений, посудно-книжно-бельевой шкаф восьмидесятых годов.
Гусеница, топорща ворсинки, движется к только ей одной известной цели.
В этой квартире я вырос. Сюда принес молодого воробья, которого мать выкормила ртом.
Воробей прятался в отцовских книгах, загадил все полные собрания сочинений и через неделю свил гнездо в нотах Мусоргского. Разбойника окрестили Севой. В четыре утра Сева планировал на мамино плечо, перескакивал на ключицу, деликатно клевал в губу и нагло вертел серенькой головенкой. Мать улыбалась сквозь сон; не открывая глаз, тянула руку к тумбочке, нашаривала ломтик хлеба, надкусывала, жевала и подавала на кончике языка. Воробей бодро уничтожал мякиш, а когда сон начинал уносить ее, словно отвязавшуюся от причала лодку, Сева требовательно окунал клювик в губы. Сначала просыпалась ее улыбка, потом сознание, потом язык. Не переставая слюнявить хлебный комок, она что-то лепетала. По-птичьи? По-человечьи? Тяжело поворачивался отец, поднимал ястребиные веки. Он пронзал взглядом подлую птичку, которая осквернила половину библиотеки, лишила его сна, забралась к нему в постель, и чертил в душе план мести. Однако линии этого плана размывались. Не потому, что утренний сон глубок, а потому, что мать была молодой и красивой.
Как-то она развешивала белье на балконе. Сева выпорхнул из квартиры, вцепился в плечо, увидел на крыше сородичей и был таков...
![Найо Марш - Зеленоглазое чудовище [ Венок для Риверы. Зеленоглазое чудовище]](/uploads/posts/books/159005/159005.jpg)