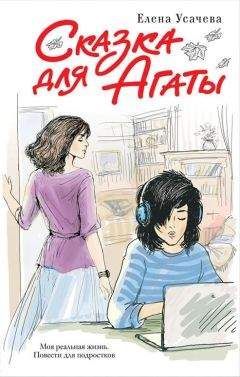Юрий Дружников - Рассказы и притчи
Я пошел в драмстудию, которой руководил пятикурсник из театрального училища Андрей Федорчук. Почему-то он с уважением относился к моим сценическим опытам, подбадривал меня. А я принимал это уважение как день моему таланту. Ведь сам Федорчук был без пяти минут настоящим режиссером.
Теперь, когда вахтер в театральной проходной поставил галочку в списке возле моей фамилии и пальцем указал, как пройти к помрежу Федорочуку, я подумал: вот я и стал актером. Такая у меня генетика. Мой компас вывел куда надо.
- А вот и еще один! - весело сказал Федорчук.
Он взял меня за шиворот и повел к режиссеру. Так в студии во время репетиции он разводил нас за шиворот на свои места в мизансцене, - это проще, чем объяснять, где тебе, бестолочи, занять позицию.
Режиссером оказался усталый седой человек с впечатлительным животиком и одышкой, похожий больше на бухгалтера. К губе его присохла погасшая сигарета.
- Новобранец, - представил меня Федорчук. - Но с хорошим опытом.
- Опять из твоей студии? Ты их что, как пирожки, печешь?
Сопя, режиссер посмотрел на меня в упор, потом, отступив на шаг, прищурился и оглядел сверху вниз и снизу вверх, сложил свои огромные губищи дудочкой, нехотя вынул из кармана замшевой куртки руку. Он немного пошлепал губами и ткнул меня в плечо, как тыкают вилкой рыбу, которую надо доесть, но уже не хочется - не вкусно.
- Для красного солдата мелковат, - промямлил он. - А белых у нас уже своих полно. Не надо!
- Да я ему уже вроде пообещал, - сказал просительно Федорчук. Парень хороший, старательный. Наш человек...
- Ты б еще не нашего привел! - возразил режиссер и, повернувшись, крикнул. - Голубее нужен задник, голубее! На кой мне эта ядовитая зелень?!
Стрелка моего компаса заколебалась. Я вздохнул и хотел уйти. Но тут режиссер снова повернулся ко мне:
- Старина, а ты в джазе себя не пробовал? Имею в виду: чувство ритма у тебя есть?
Я скромно кивнул.
- Возьми его, - устало сказал он помрежу. - Проведи через второе действие. Пускай поработает лошадью.
"Любовь Яровая" шла полным ходом уже не в репетиционном зале, а на сцене, но еще без костюмов и грима. Меня поставили слева у кулисы, неподалеку от пульта помощника режиссера. На щите перед ним загорались и гасли сигнальные лампочки. Федорчук сидел во вращающемся кресле и бурчал в микрофон:
- Начинаю второе действие. Кончайте курить. Занятых в первой картине прошу на сцену. Пошевеливайтесь!
Помреж недолго возился со мной. Я быстро сообразил что и как делать. Все-таки в кармане у меня лежал аттестат зрелости. Ну, пусть не в кармане, а дома, в шкафу под бельем, - не придирайтесь к словам. По гениальному замыслу режиссера, когда красные временно отступают, поручик Яровой должен в панике промчаться на лошади, в глубине за сценой остановиться, а затем появиться перед зрителем.
С лошадью, хотя это эффектно и привело бы зрителя в восторг, решили не связываться, как с дорогостоящей и трудно управляемой стихией. Магнитофонов тогда в театрах еще не было, музыку делал небольшой оркестр в яме. Три дня с утра до вечера к ужасу родни и соседей лошадь тренировалась дома и достигла несомненных результатов. Стоя слева за кулисой, я держал наготове руки с зажатыми в них кастаньетами.
Моя работа начиналась после взмаха руки Федорчука, следом за фразой на сцене тылового деятеля Елисатова "Как бы трюмо не повредили". Дождавшись этой фразы, я начинал цокать тихо, потом лошадь приближалась, и звук кастаньет становился громче:
- Та! Та-та! Та-та-та! Та-та-та. Та-та! Та-та-та-та-та! Та-та!
Тут поручик Яровой соскакивал с лошади и стремительно бежал через сцену. Вслед ему Елена, жена профессора Горностаева, кричала:
- А, голубчик! Что? Режь буржуев, как кур?!
Любовь Яровая испуганно спрашивала:
- Ай, кто, кто там?
А лошадь еще некоторое время цокала за кулисой копытами, перебирала ногами. После этого я был свободен.
Чувство причастности к большому искусству заставляло меня проводить за сценой долгие часы. Я с восторгом вбирал в себя разговоры, краски, звуки. Потом это стало несколько однообразным и поднадоело. Театр изнутри постепенно разочаровал меня своей прозой: грязными вблизи декорациями, матерщиной рабочих сцены, нудными повторениями одного и того же на репетициях, приказами дирекции о том, что артисту Н. объявляется выговор за явку на прогон в нетрезвом виде. Я осторожно поделился этим открытием с Федорчуком.
- Разочарование, - философски заметил он, - следствие избыточных восторгов. Скоро все станет на место. Откроется нечто таинственное, непостижимое. Театр выше быта, суеты. Театр - часть жизни, это так, но он выше жизни, как цветы выше корней. Во-он, видишь, бежит по коридору актриса, заслуженная, между прочим? Она вчера перепила, ночь провела, ей самой неизвестно с кем, и опоздала. Сейчас ее выматерит режиссер. Потом она закурит, расскажет ему похабный анекдот, и он успокоится. А она потихоньку сбегает в буфет опохмелиться, вернется, выйдет на сцену и вдруг преобразится в чистое и божественное создание, в которое влюбится ползала.
- Но как, в чем секрет?
- В ней что-то включается... Так деревянный ящик превращается в рояль или в телевизор, способный открыть мир. Чудо, брат! Театр - это Золушка. Под рваным платьем скрыта красота: прекрасное тело и гармоничная душа. Стучи копытами, старайся! Сделаем тебе рекомендацию в театральный вуз.
Федорчук оказался прав: постепенно я вошел в колею, на грязь перестал обращать внимание, постигал душу Золушки, одетой в лохмотья.
В мужской артистической, когда пошли в ход костюмы и грим, статистов стало набиваться полно. Все они были студентами, старше и опытнее меня. Мне просто повезло. А может, и не просто, хотел думать я. Не бездарней же я натуральной лошади!
Гримировались стоя, оттесняя друг друга от банок с красками, в которые лезли руками. Мне одному не надо было гримироваться: в отличие от красных и белых солдат, лошадь на сцене не появлялась. Она стояла у кулисы, там, где из стены торчала красная коробка с надписью: "При пожаре разбей стекло и нажми кнопку". Стекло было уже выбито, оставалось нажать.
Когда ни красные, ни белые солдаты на сцене не требовались и режиссер был занят с актерами, мы собирались на узкой площадке винтовой лестницы, ведшей вверх, на чердак, и вниз, в оркестровую яму. Иногда к статистам подбегали актеры взять закурить, за это расплачивались шутками. Вдруг от скуки кто-нибудь нажимал красную кнопку в коробке и кричал:
- Атас, ребята! Сматывай удочки!
Все разбегались и прятались, кто где мог, но так, чтобы следить за происходящим.
Вскоре по скрипучей лестнице сползал с чердака пожарник дядя Константин. Толстый, абсолютно лысый, в военной гимнастерке с широким ремнем, дотаченным, по-видимому, куском пожарного шланга, дядя Константин держал наперевес огнетушитель и, тяжело дыша, оглядывался: где горит? Впрочем, не раз обманутый, он, наверное, и сам не верил, что может быть пожар. А когда у него начинала выть сирена, спускался по обязанности, обозначенной в инструкции, и за это ненавидел хулиганов.
Убедившись, что нигде ничего не горит, дядя Константин подходил к кнопке и обнюхивал ее, словно хотел по запаху найти преступника или искал отпечатки пальцев. Константин заслонял спиной кнопку и, все еще держа огнетушитель наперевес, будто он готов немедленно отразить нападение поджигателей театра, хриплым от неупотребления голосом спрашивал:
- Хто жал? Я спрашиваю, хто жал?!
Вокруг никого не было.
Дядя Константин поправлял ремень, стягивал гимнастерку за спиной и более спокойно прибавлял:
- Выясню! Все равно выясню, хто жал. Подам дирекции докладную, пускай увольняют. Так и знайте!
Тут, как ни в чем не бывало, начинали собираться статисты.
- За что ты его уволишь, дядя Константин?
- За ложную тревогу. Скажите еще спасибо, что я сразу пожарную часть не вызвал. Сидели бы вы все в пенном порошке и пускали пузыри!
- Спа-си-бо, дя-дя Кон-стан-тин! - скандировали мы хором.
Пожарник взваливал огнетушитель на плечо и, тяжело ступая толстыми больными ногами, гордо поднимался к себе на верхотуру, на свой пост. Работа его состояла в том, что он целые дни спал.
3.
Настал день сдачи спектакля комиссии из министерства, которой боялся даже сам режиссер. Все суетились, присматривали друг за другом, дабы от волнения чего не натворить. Помреж Федорчук - за рабочими сцены, чтобы не перепутали декорации и посреди гостиной не прибили развесистый дуб. Актеры - за гримерами и костюмершами, художник - за осветителями. На всех рычал режиссер. И только статисты не волновались. Нам все было до лампочки. Подумаешь, пробежать по сцене или постоять на карауле возле штаба, пока актеры перешвыриваются репликами! Лошадь: та-та-та - и порядок! Станиславский, конечно, прав: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Но у маленьких актеров и роли маленькие, и маленькая ответственность. Это про нас. Всем своим видом статисты говорили: за нас не волнуйтесь! Уж мы-то не подведем, свое дело сделаем без особого напряга. А вот вы?!.