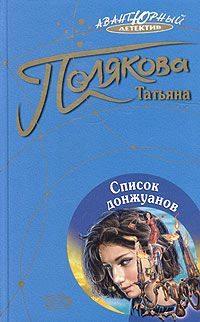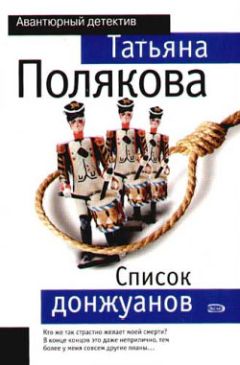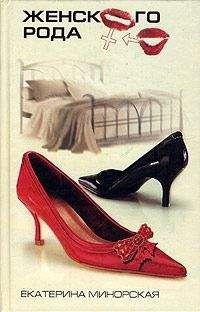Екатерина Краснова - Груша
Груша нежно привязана к своему родимому дому и к семье. Дом её чуть не самая кривая изба во всей деревне, сарай совсем разваливается, а овин похож на огромное птичье пугало, пристроенное притом же совсем не к месту, потому что и птиц пугать не к чему: в огороде произрастает один хрен.
Отец Груши, очень умный и плутоватый мужик, несмотря на весь свой ум и изворотливость, за которую его даже прозвали в деревне «Налимом», никак не может поправиться, не то что разбогатеть.
— Счастья Бог не дал! — говорят про него мужики.
Кроме жены Марфы, Груши да двух питомцев, у старосты живёт его отец, седой, сгорбленный старик, непомерно старый, но всегда занятый какой-нибудь работой. В деревне он специально известен под названием «дедушки, который век свой доживает».
— Кто это там у вас, на гумне, сено ворошит?
— А дедушка… Век свой доживает… — говорит Груша.
— Это твой отец, Иван Сергеевич?
— Да-с… дедушка… век свой доживает.
И сам дедушка тоже:
— Здравствуй, дедушка! Как поживаешь?
— Живу, матушка, помаленьку… век свой доживаю…
Дедушку Груша любит (отчего не любить!), но тятю особенно. Его больше всех изо всей семьи.
Уж которое трёхлетие выбирают его в старосты, значит мир доволен. А между тем нет ни одного мужика на деревне, который бы не знал и не рассказывал про старосту тьму тьмущую разных скверных историй, расписывая его вором и мошенником.
— А к чему у него ваши подреза, матушка, прижились? Сроду он с подрезами не ездил, а теперь что? — говорит мне один.
— Видел я ваши книжки у старосты на прошлой неделе, — замечает другой. — На папиросы рвёт.
— Он и не курит, тятя мой! — раздаётся неожиданно негодующий голос Груши.
И, обругавши говорящего «как не надо быть хуже», она с достоинством удаляется в кухню, откуда её вызвали обличительные голоса.
На беду, у старосты есть кума среди нашей прислуги, и довольно влиятельная кума. Он постоянно проводит свои досуги в нашей усадьбе и принимает участие во многом, что здесь происходит. А потому на него беспрестанно сваливаются всякие недочёты, пропажи и провинности, к сожалению, иногда не без основания…
— Где новый хомут, ну, где? И опять же отчего прошлогодних подков половины нет?
— Вот извольте спросить у старосты! — значительно говорит кучер.
— Да что же староста? Ведь ты смотришь за лошадьми и за конюшней, а не он!
— И опять — где наши верёвки? — укоризненно продолжает мой Яков, не обращая ни малейшего внимания на мои слова. — Прачке не на чем бельё вешать… а толстеющие были верёвки из Петербурха навезены… А с этой вон самой телеги задние колёса где? У старосты, всё у старосты!
Тут уж, если Груша слышит, она является вся дрожащая, глубоко взволнованная. Её глаза полны слёз, несвязно и сбивчиво начинает она защищать тятю, сообщая кстати, где видела верёвки, кому понадобились колёса и т. д. Она клянётся и божится, что на тятю всё врут, хотя и помнит смутно, что верёвки и колёса и в самом деле как будто у тяти. Как бы то ни было, нападки на тятю повергают её в такое неутешное состояние, что самая песня, которую она затягивает по привычке вслед за этим, звучит печально и заунывно и свидетельствует о её скорбном настроении.
Матушка неро́дная —
Похлёбочка холодная…
Кабы родная была,
Щец горячих налила…
V
Летом первое Грушино удовольствие — купаться.
Под самой деревней, где Груша родилась и выросла, протекает небольшая, но очень хорошенькая речка, местами глубокая, местами довольно широкая, повсюду светлая и прозрачная. Течёт она, беспрестанно извиваясь, среди душистых лугов, которые совершенно заливает весной; по её берегам густо растёт ольха, заплетённая хмелем. Дно везде ровное, песчаное, речка весёлая, быстрая и кишит рыбой, которой в нашем краю не ловят («Как ты её достанешь? Ведь она в воде», — говорят наши предприимчивые мужики, почёсываясь). Прилетают туда белые чайки с соседнего озера, качаются на воде выводки диких уток, плавают круглые, жёсткие листья и белые цветы водяной нимфы. В песчаных берегах вьют себе гнёзда полевые ласточки, над прибрежными травами кружатся блестящие стрекозки, а деревенские ребята всё лето беспрестанно копошатся в тёплой воде.
Груша с детства плавает как рыба, умеет нырять и проделывать всякие фокусы в воде, например, долго идти под водой с огромным камнем в руках, который в воде «лёгок будто пёрышко, а на волю не пущает».
Первобытный костюм Груше особенно мил и удобен. Она никогда не бывает так невозмутимо развязна и самоуверенна, как в те минуты, когда всё её платье лежит на берегу, в траве. Прикрывая рукою глаза от солнца, она безмятежно прогуливается по берегу безо всякого одеяния, кроме шнурка с крестом на шее, вся коричневая, точно загорелая с ног до головы. Такие прогулки Груша предпринимает, чтобы разглядеть, где больше распустилось «белых тьветов», или куда делись утки, которые «ровно быдто спустились неподалёчку», а иногда даже и затем, чтобы убедиться, нет ли где поблизости пастухов или косцов, присутствие которых неприятно барышне. О собственном уединении в таких случаях она не помышляет, — ей решительно всё равно.
Однажды, когда Груша сорвала большой лист водяной нимфы и, заслонившись им от солнца, бойко побежала по берегу безо всякой другой одежды, меня поразило её сходство с краснокожим дикарём, из тех, что изображают обыкновенно на картинках к романам Купера или Майна Рида. Недоставало только пучка перьев на макушке головы, а то было бы полное сходство.
В воде Грушей овладевает буйный восторг. Она плещется, взвизгивает, поминутно выходит на берег и бросается в воду со всего размаха или схватывает пригоршни песка и неистово трёт себя этим песком. Сходство её с краснокожим дикарём продолжает меня поражать.
— Груша, что ты делаешь?
— А песком моюсь, Катерина Ондревна, — говорит Груша совершенно просто и естественно и продолжает растирать себя с таким ожесточением, точно она — самовар, который ей предстоит вычистить.
И затем, вся облепленная песком, красная, буйная, она стремительно бежит в реку, расплёскивая воду во все стороны блестящими брызгами и распугивая стаи рыбок, играющих на солнце.
— Гляньте, гляньте, как я на спинке поплыву! — кричит она с азартом.
— Будет тебе. Вылезай!
— Ещё маленечко! Гляньте, гляньте, как я нырну!
Но едва она вышла из воды, как уже одета и сейчас же принимается собирать дудки или щавель, напевая вполголоса:
Бедный ры-ы-царь, всё стри-и-митца,
И а-ах, к Мальвине ма-ло-до-ой…
VI
Какая-то сердобольная барышня, прожившая три зимы по соседству с Грушиной родной деревней, выучила Грушу читать и писать. Груша, вообще, любит читать, но всего больше правятся ей песенники и сказки. Сборник народных песен, который я ей подарила, занял её необыкновенно. Особенно обрадовалась она, когда нашла там несколько знакомых ей песен.
— Наши самые, деревенские песни! — говорила она, сияя.
Замечательно, что у Груши прекрасный музыкальный слух и память. Всякие мелодии она запоминает удивительно быстро и никогда не фальшивит. Слова ей даются также очень легко, но со словами она обращается безбожно и фразировки в пении не признаёт.
Вспомни, Со-ни-чка, дру-ужо…
раздаётся на дворе во всё горло, затем отворяется дверь, и среди внезапно наступившего молчания звенит посуда, которую Груша расставляет в буфете. Потом опять отворяется дверь, и со двора немедленно доносится продолжение:
?…чик,
Ка-ак люби-лись мы с тобой!..
Само собою разумеется, что излюбленное Грушей чтение только укореняет все её бесчисленные суеверия и утверждает её в твёрдой вере во всевозможную чертовщину. Домовой, огненный змей, русалки — для неё живые лица, в существовании которых она нимало не сомневается. Кроме того верит она ещё множеству всяких небылиц, и часто приходится в этом убеждаться.
Например, спит она обыкновенно, засунувши голову под подушку, и во сне кричит благим матом, вскакивает и мечется по своей постели.
— Груша! Зачем ты покрываешь голову одеялом да ещё засовываешь под подушку?
— Так лучше.
— Как лучше, когда ты всю ночь кричишь? Ведь этак ты задохнёшься когда-нибудь.
— Это не уттаво, Катерина Ондревна.
— Как не оттого? Наверно оттого. Ты себя душишь.
— Нет, не уттаво, — упрямо повторяет Груша. — Всё уттаво, что у меня два духа, — прибавляет она, понизив голос, печально.
— Что такое?
— Два духа у меня: один спит, другой кричит. Вот что! А бывает и домовой. Как он начнёт, как начнёт… Уж известно, он всё по ночам ходит. Тятю раз за ноги с лавки стащил.