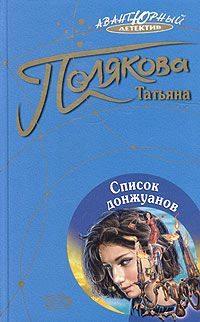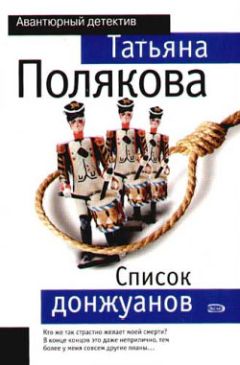Борис Штейн - Донный лед
Было тепло и уютно. Тепло создавала электроводяная отопительная система, уют, - кто его знает, откуда взялось ощущение уюта? Может быть, как раз от тепла (а на улице стужа!), может быть, оттого, что мерцал шкалой профсоюзный приемник "Сириус" и знакомый голос пел знакомую песню "Где ж ты, моя сероглазая, где, в Вологде, где, где, где, в Вологде, где, в доме, где большой палисад..." (любимая, между прочим, песня; Сеня, когда играл в шахматы, всегда напевал ее дурным голосом и на не очень похожий мотив), может быть, просто оттого было уютно, что вот сидит человек, наклеивает марки и никто ему не мешает.
Сеня наклеивал марки и от усердия трогательно морщил нос.
В дверь постучали.
Сеня встал.
Он встал и пригладил взъерошенные волосы. На Сене были тренинги хлопчатобумажные из орсовского универмага и давно не стиранная вытянутая майка. При невысоком росте и нешироких плечах у Сени был ясна обозначенный животик, и вытянутая до некрасивости майка подчеркивала все его диспропорции.
Сеня нехотя открыл дверь. В тамбур вместе с порывом сухого морозного ветра ввалился Толик.
- Здоров! - весело сказал Толик и закурил.
Сеня нехотя поздоровался и не предложил сесть. Толик сел без приглашения.
- По делу или так? - спросил Сеня.
- Ну ты че сразу-то, - отмахнулся Толик, - по делу не по делу, - дай покурить сперва.
Значит, по делу, вздохнул Сеня и надел фланелевую рубашку в клеточку. В рубашке Сеня выглядел, конечно, авторитетней. И он уже мог откинуться на спинку стула и сказать довольно официально:
- Слушаю тебя, Толик.
- Завтра, че ли, местком?
- Ну?
- Ну и че, обязательно по тридцать третьей? Можно и по собственному!
- Увольняет не местком, - сказал Сеня формальным голосом, - увольняет администрация. Местком только дает согласие. Или не дает.
- А вы не давайте.
- А мы дадим.
- Ясно.
- Что тебе ясно?
- Зудину женю лижешь.
На такой прямой выпад нужно было как-то решительно отреагировать. Например, встать, открыть дверь и сделать театральный жест, дескать, покиньте помещение. Или что-нибудь не менее достойное. Но Сеня в таких случаях всегда терялся и поступал не самым правильным образом. И он поступил так: он сказал:
- Тебе, что ли, лизать? За то, что склад пропил, на работу не выходил, за это, что ли?
- Че буровишь, че буровишь, - примирительно забормотал Толик, - че буровишь-то, че?! Недостачу покрою. А пить - кто не пьет? Ты, че ли, не пьешь?
- Не пью! - закричал Сеня со злостью. - С вами, алкашами, к нормальной выпивке вкус потерял!
И как бы в подтверждение этих его слов на дальней - в глубине вагончика - кровати произошло некое шевеление, и с кровати поднялась нелепая фигура не окончательно проснувшегося человека. Человек маялся. Молча проследовал он на кухню, молча обследовал полку, стол, подставку для бака с водой и уголок там, за баком. Потом заглянул за приемник "Сириус", зачем-то предварительно убрав звук.
Толик наблюдал за ним с понимающей улыбкой. Человек, однако, не замечал Толика. Зато он впился тяжелым мутным взглядом в Сеню.
- Вылил?
- Вылил, - подтвердил Сеня, не отводя глаз.
- Да ты знаешь, что натворил? Да за это знаешь? - Он очень грозно сказал это, очень грозно. Так грозно, что можно было ожидать самых решительных действий. Но решительных действий не последовало. Напротив, человек сказал довольно ласково: - Сеня... - И добавил не ласково уже, а просто нежно: - Ну налей хоть двадцать капель...
- Нет, - сказал Сеня твердо и отвернулся. Вопрос был исчерпан, и следовало демонстративно чем-нибудь заняться, например, не торопясь, со смаком закурить. Но Сеня не курил.
- Че, Леха, - понимая, спросил Толик, - душа требоват?
- Ну немного! - с надеждой отозвался человек по имени Леха.
Толик весело подмигнул:
- Пошли в заежку, подлечу.
Леха молча, сосредоточенно оделся, и они ушли.
Сеня посмотрел им вслед и горько выругался. Потом он накинул на входную дверь крючок, снял фланелевую рубаху, лег на кровать, заложив руки за голову, и пролежал так довольно долго.
Дело в том, что Леху было жаль до слез. Леха запивал тихо и надолго. Иногда в запое он сохранял некоторую работоспособность - Леха был художником-оформителем. На штате стоял плотника, а работал художником-оформителем. Приехал сюда Леха из Свердловска, где тоже работал художником-оформителем в строительной организации. Сюда, в мехколонну, Леха приехал по вызову, вызов организовали ему свояченица с мужем. Она работала здесь в бухгалтерии, он - прорабом. У Лехи была легкая рука и легкий характер. Леха сказал Сене:
- Я очень люблю готовить. Но себе же одному не интересно. Давай буду на двоих!
И стал готовить на двоих: супы, каши, картошку с мясными консервами, и радовался, когда Сеня хвалил.
Они были одного возраста, тридцать шесть лет им было, оба родом из деревни, у обоих было голодное военное и послевоенное детство, оба преодолели судьбу и выбились в люди. Сеня окончил техникум, а потом, заочно, институт (уже работая в Ворошиловграде в автохозяйстве). Леха окончил Пермское художественное училище по специальности резьба по камню.
Как Леха в училище поступил - целая история. Деревня у Лехи была бедная, к тому же отец - инвалид войны. Заслуг много, но не работник. Одна нога на двенадцать сантиметров короче другой, и спина вся осколками изуродована. Уже пятидесятые годы начались, а из отца все осколки выходили мелкие. Как в бане напарится, так и... Сперва сам старался, потом Леху приноровил вытаскивать. Если, конечно, верить Лехе. Но долгими вечерами за чаем - какой смысл врать? За язык никто не тянет... В общем, голодно жилось Лехе. Бывало, на ужин сколько едоков, столько картошек - по одной на нос.
Леха был человек крещеный. Крестная его сильно верующая была. Монашка не монашка, а может быть, даже и монашка. И она его подкармливала немного. Подкармливать подкармливала, а заодно и к богу приучала. Церковь в деревне была действующая. Авторитетная церковь. И поп был авторитетный человек. На велосипеде ездил. Никто больше не ездил, а поп ездил. Видно уж, закон такой: чем похлебка жиже, тем церковь ближе. Одним словом, стал Леха в церкви помогать, стал со временем как бы пономаренком. Старушки ахали, жалели Леху. Кто яичко поднесет, кто шанежку... Так класса до седьмого кормился Леха около господа бога. А в седьмом классе образовалась между ним и богом трещина. Дразнить стали Леху. Обидно и безжалостно дразнить. И то сказать: в школе - история, конституция, литература - совсем одно. Опять же пионерская работа. А в церкви он к тому времени уже за пономаря прислуживал, совсем другое. В общем, не выдержал Леха такой раздвоенности. И поскольку светская общественность в лице мальчишек оказалась все-таки сильней духовной общественности в лице попа, Леха порвал с церковью. Седьмой класс Леха кончил неплохо, но дальше в школе учиться не стал. Может, сам-то он и стал бы, но отец не велел. Велел отправляться в город за специальностью.
К чести деревенского попа нужно сказать, что он, во-первых, не удерживал мальчишку при себе, а, так сказать, отпустил с богом, и, во-вторых, дал ему однажды вырезку из газеты насчет приема в художественное училище, - поп знал, что Леха иногда рисует и у него что-то, однако, получается. Отец недоволен был Лехиным выбором. Он надеялся, что Леха на механика выучится или на строителя. Но Леха уперся, и отец его упрямство уважил. Дал он Лехе денег на билет в один конец, и Леха поехал.
Провалился Леха на первом же экзамене - по рисованию. Потому что раньше если когда рисовал, то "из головы", фантазируя. А тут дали рисовать гипсовую голову - Леха ее и в глаза-то до этого не видел...
Одним словом, Леха провалился, и ему отдали документы. Обратного пути для Лехи не было. Два дня он ходил с теми, кто не отчислен, в бесплатную столовую, и за это время узнал, что при училище имеется кочегарка, и стал проситься туда работать. Его по малолетству не принимали, но старушка в отделе кадров сжалилась над ним и велела идти к директору: он добрый, может разрешить.
Директор - Леха его в жизни не забудет, - седой, костлявый, в военной гимнастерке под пиджаком, - пожалел Леху. Он велел принести нескладный Лехин рисунок и собственноручно исправил двойку на тройку. И Леху приняли, потому что остальные экзамены он сдал.
Сначала специальность Лехе никак не давалась. Просто сплошные были двойки. Тройки ему ставили только по настоянию директора. Потом, когда в Лехе произошел перелом и оказалось, что он лучше всех рисует и лучше всех лепит, словно откопал в себе нечто, зарытое очень глубоко, директор признался ему, что ни о чем таком в отношении Лехи и не помышлял, а просто жалел его, как жалел всех голодных горемык - и деревенских, и городских. А вот выяснилось, что у Лехи талант, и он, директор, не дал ему погибнуть, и не благодаря какой-нибудь особенной проницательности, а просто по доброте. И теперь, зная, что сделано такое доброе дело, можно, как говорится, спокойно умирать.