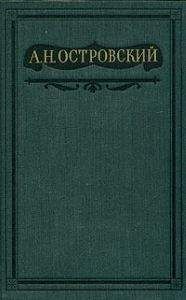Нодар Думбадзе - Цыгане
- Вижу... Жив он... Среди чужих людей... Хочет идти домой... Не пускают его... Ага! В плену он! В плену! Понимаешь?
- Сыночек! - воздела руки старушка. - Лишь бы жить ему...
- На голове у него повязка... Окровавленная повязка... Что это? А, он был ранен... Да, был ранен, но он жив...
Бабушка Нина с подозрением взглянула на цыганку, потом быстро встала, подошла к образу, вернулась к нам и протянула Оксане письмо - то самое неотправленное письмо сына с засохшей кровью.
- А вот это? Как же быть с этим?
Оксана побледнела.
- Ты куда меня привел, болван?! - прошептала она.
Что я мог ответить?
Оксана задумалась. Я и бабушка Нина с нетерпением смотрели на нее.
После долгого молчания цыганка подняла голову:
- Письмо было отправлено с другим человеком... И этот человек убит. Письмо лежало в кармане у того, у другого человека... Твой сын жив...
Бабушка Нина опустилась перед Оксаной на колени.
- Заклинаю тебя дитем, которого ты ожидаешь...
- Что?
Я перевел.
Оксана обомлела, побледнела, лицо ее окаменело, глаза расширились. Она прикрыла, словно защищая, живот руками, потом начала медленно поглаживать его. Губы женщины что-то шептали на непонятном языке. Мне показалось, что она молится - горячо, самозабвенно, выпрашивая у своего бога прощение за содеянное тяжкое преступление... Постепенно она отошла, успокоилась, на зарумянившемся ее лице разлилось чудное умиротворение. Потом она улыбнулась и сказала:
- Объясни старушке - жив ее сын. И вот ей знамение: у меня начинаются роды. Родится сын, и я назову его Гришей!
И пока я дрожащим голосом переводил сказанное бабушке Нине, которая целовала босые ноги цыганки, душераздирающий вопль Оксаны оглушил все вокруг.
Спустя полчаса во дворе Дзнеладзе собрались весь цыганский табор и все село Зенобани.
На высоко поднятых руках, словно богоматерь и младенца Христа, унесли цыгане дочь своего вожака Оксану и сына ее Гришку.
Я был с ними.
До самого утра не прекращались вокруг огромного костра танцы, песни, звон стаканов с вином, поцелуи, объятия, шум, крик и даже мимолетные драки.
Однако главное - не это, и даже не то, что бабушка Нина подарила Оксане свое обручальное кольцо.
Главное произошло потом.
Проснувшись однажды утром, село увидело Лашисгельскую рощу опустевшей. Оказалось, что цыгане собрались ночью, прихватили с собой одну козу, двух поросят, одного теленка, десятка два кур, еще кое-что из домашнего скарба сельчан и... были таковы! Их и след простыл...
Сейчас, в наши дни, упоминание вышеперечисленного добра может вызвать улыбку у читателя, но в то время это было целое состояние. Какое там! Из-за поросенка сосед мог перегрызть горло соседу!
Догнать цыган - с их бешеными конями! - никому и в голову не приходило. К тому же никто не знал, по какой дороге они ушли.
И пока село бушевало...
И пока село суетилось...
И пока село совещалось...
Пришел вечером человек в Зенобани и сообщил: милиция задержала цыган в Чохатаури, уличила их в краже, и теперь пострадавших зенобчан приглашают в район.
В Чохатаури двинулась половина села - кто за своим похищенным добром, а больше из-за любопытства.
Цыгане толпились во дворе милиции. При нашем появлении они смутились, отвели глаза. Я сгорал от стыда, хотелось плакать и - вы не поверите! быть не среди наших сельчан, а с ними, цыганами. "Неужели люди не понимают, - думал я, - что цыгане вовсе не воры? Просто они так устроены пройдут мимо чужой вещи, она сама пристает к ним, как к магниту!" Но поделиться своими мыслями было не с кем, да и кто бы их принял всерьез?
Спустя час наконец-то вышел на балкон начальник милиции Кикития Осепайшвили. Облокотился на перила, окинул взглядом собравшихся и спросил:
- Сельчане, узнаете этих людей?
- Как же не узнать, когда они две недели жили у нас в Зенобани! ответил за всех наш старейшина, наш мудрец Леварси Бережиани.
- А добро это - ваше? - Кикития показал рукой на угол двора, где был привязан к ограде похищенный скот и свалены в кучу украденные вещи.
- Это мое!
- Вот это мое!
- Вот мое!
Люди подбежали к принадлежавшим им скоту и вещам.
- Вернитесь обратно, болваны! - крикнул Леварси, и сельчане, словно ошпаренные, побросали свое добро и отхлынули назад.
- В чем дело, уважаемый Кикития, зачем ты позвал нас? - обратился Бережиани к начальнику милиции.
- Ты что, оглох, старик? Сказано ведь вам - разберите свое имущество, а с этими воришками разберусь я!
- Какое такое имущество, уважаемый Кикития?
- Как - какое? Ваше имущество, какое же еще?
- Было оно нашим...
- Слушай, не своди меня с ума! Что значит - было?!
- А то, что мы выменяли его на разные вещи - на цепи, на топоры... Слышь, Арсен Гудавадзе, где твой поросенок?
- Вот он, с отрубленным ухом! - показал рукой Гудавадзе.
- И на что ты его выменял? Кажись, на цепь и щипцы?
- Точно, Леварси, на цепь и щипцы!
- Поросенка - на щипцы и цепь? Да обалдел ты, что ли? - крикнул Осепайшвили.
- А это уж дело хозяйское, уважаемый Кикития! - ответил с достоинством Арсен и отошел в сторону.
- А второй поросенок? Чей он? - спросил Кикития.
- Он бесхозный! - ответил кто-то из толпы.
- Чья коза? - продолжал начальник милиции.
- Откуда мне знать? - выступила вперед бабушка Нина, хотя никто ее и не спрашивал, и тоже отошла в сторону. Коза с блеянием последовала за ней.
- А почему коза прет к тебе? - усомнился Осепайшвили.
- Коза - она и есть коза, глупое животное, потому и прет! отпарировала бабушка Нина.
- Бабы! - обратился Леварси к женщинам. - Помните, за гадание вы платили чачанкам по курице. Так?
- Точно, Леварси, по курице! А за доброе предсказание - по две! ответили хором женщины.
- Значит, ни у кого из вас ничего не пропало? Так какого черта вы сюда тащились на ночь глядя, а? - спросил смешавшийся Кикития.
- Так мало ли что... Сказали - вызывают в милицию... Мы и подумали, может, новость какая неприятная... Война как-никак... - оправдал односельчан Леварси Бережиани.
- И этот теленок - бесхозный? - предпринял последнюю попытку начальник милиции.
- Нет, это мой теленок, я подарил его начальнику чачанов, - ответил Леварси.
- А что - кум он твой, начальник чачанов?
- Почему кум? Дочь его родила у нас в селе и назвала сына именем Гриши Дзнеладзе... На фронте он... Вот я и подарил теленка. А что, нельзя?
Наблюдавшие эту сцену цыгане изумленно взирали то на нас, то на начальника милиции. Чувствовали они, что происходит нечто странное, необычное, но что именно, не могли понять.
- Ладно, - решил наконец Осепайшвили, - разыграли меня, опозорили перед этими чачанами? Бог с вами! Но не думайте, что подам вам автобус! Топайте пешком в свой Зенобани! - Он повернулся к нам спиной и обратился к вожаку цыган Николе: - Езжайте, дорогие, и извините, пожалуйста, за задержку. Нет у них к вам никаких претензий!
Сельчане и цыгане вместе вышли со двора милиции.
Молча стояли мы друг против друга. Потом из толпы цыган вышел Никола, приблизился к Леварси Бережиани, приложился к его груди, постоял так с минуту, затем повернулся, пошел к своей кибитке, вскочил на облучок, и... табор цыган со свистом, криком, щелканьем кнутов умчался по пыльной дороге.
Ускакали милые, моему сердцу чачаны - веселые, неунывающие, неугомонные кузнецы, танцоры, гадалки, скрылись с глаз нечистые на руку, дорогие мои цыгане. Они унесли с собой крохотный кусочек нашего сельского добра, а оставили в Лашисгельской роще огромный костер надежды, который до сих пор горит в моей груди.
Ушли цыгане... А мы - грустные, но беспредельно довольные и счастливые своим поступком - потянулись домой по нескончаемому зенобанскому подъему...