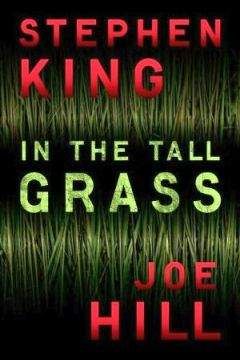Евгений Носов - Два сольди
* * *
Разумеется, я ездил в деревню не затем, чтобы сидеть в крапиве возле развалин дедовой избы. Как уже было помянуто, от главного нашего корня отпочковались новые побеги, и в деревне своими дворами и семьями жили три мои тетки: тетка Маня, тетка Лена и тетка Вера. Все они были обременены детворой и, кто как мог, тащили свои лямки. У тетки Веры было восьмеро гавриков мал мала меньше, у тетки Лены - тоже восьмеро. Правда, у тетки Мани в живых осталось только четверо, но и ей тоже доставалось, поскольку те двое были все-таки при мужьях, а эта волокла в одиночку: муж ее, дядя Яков, мучившийся желудком и какой-то глазной болезнью и еще до войны носивший черные очки в жестяной оправе, которые наводили на меня страх, сгинул в сорок третьем не то в сорок четвертом где-то в тыловом стройбатальоне.
Таким образом, одних только моих двоюродных братьев и сестер в деревне обитало более двадцати душ, и я даже не всех знал по имени. Тем более что имена их числились только в метрических свидетельствах, тогда как в повседневности их заменяли клички и прозвища на дохристианский, языческий манер, которыми охотнее пользовались и отец с матерью, скажем: Муркач, Купчевна, Тюха... А тетка Лена, к примеру, перед тем, как лечь спать, пересчитывала своих не поименно, а поштучно, как куренков. Она ходила по хате уже босая, в ночной рубахе, заглядывала то на полатья, то на печь и, отмахивая пальцем счет, нашептывала: "Один, два, три, так.. четыре, пять, шесть... шесть... ше-е-есть. А где же еще двое? Ага, вот они: семь, восемь". И когда бухгалтерия сходилась, крестилась, подводила итог: "Слава те, Господи, все тута".
Весь этот разнокалиберный народец - от едва научившихся ходить до уже начинавших покуривать и женихаться - жил без особого материнского надзора, своим колхозом: сами наводили критику и самокритику, сами давали друг другу подзатыльники за неправое дело, за нарушение неписаного артельного устава, и все - и одежа, и обувь - были общими, никому лично не принадлежавшими, кроме нательных рубах. В общем пользовании находились две-три телогрейки, столько же резиновых сапог на вырост, в остальном - успевай только хлеб на стол.
- Вот считай, - говорила тетка Вера, - восемь обормотов, да мы с отцом, итого - десять ртов. Клади по полбуханке в день на каждого, это уж я так, в самый обрез беру, летний день велик, да и особых разносолов к этому хлебу нетути - картошка, огурцы, камсица, к вечеру - щей чугун... Вот и считай: пять буханок на день. Это полсотни кирпичей на десять ден. Так? А на месяц полтораста буханок. Кровь из носу, а вынь да положь! Ох, Женька, затянулась мешки из города таскать! - И, сверкнув минутными слезьми, тут же смеется. Вот давали бы мне машину - никакую не взяла бы: ни "Москвича", ни "Победу", взяла бы хлебный хургон.
В летнее время остальные витамины "обормоты" добирали сами: шастали по окрестной "пересеченной" местности и, как в доисторические времена, когда труд еще не сделал человека человеком, ели свербигу, щавель, корни лопуха, просвирник, обножья первоцвета, дудник, почки и листья липы, пупырь, покосную землянику, шмелиный мед, черную бзюку, прикорневые побеги ситника, заячью капусту, дикий лук, головки клевера, цветы белой акации, стручки гороха и вики, молодой овес и вату подсолнуха... Под осень откочевывали в леса и набивали брюхо ежевикой, смородиной, дикими яблоками и грушами и прочей лесной садовиной, поскольку своих садов в деревне не заводили, тратить землю на них считалось баловством, и почти все огороды отводили под матушку-картошку. Так что вся эта моя двоюродная братия, с самой весны переведенная на беспривязное содержание, уходила в зиму, как говорят ученые ветеринары, выше средней упитанности. За долгое наше лесостепное лето они никогда не стриглись и не мылись с мылом, от их жарких, пропеченных тел и жестких, выцветших волос пахло зверушачьей дичиной, кожа, искусанная комарами и оводами, исцарапанная колюками, обретала цвет каленого чугуна, а подошвы ног задубевали настолько, что полуодичалые родичи мои могли выплясывать на углях догорающего костра, непринужденно напевая:
За два сольди эта песенка плостая,
Люди слусают, вздыхая и мецтая,
И тебя вздохнуть заставит тозе
О твоей беспецной юности она...
Мне всегда было заманчиво гадать, кем они станут лет этак через пятнадцать, может, среди этих вихрастых дичков бегает какой-нибудь выдающийся деятель или гений. Но вот прошли эти пятнадцать лет, и я уже знаю, что чуда не произошло: ни один из них не доходил до конца даже сельскую школу и теперь добывают свой хлеб, кто как горазд. Первый же суховей выдул их из деревни, и они, о том ничуть не жалея, легкие на подъем, разлетелись по белу свету, как осенние паутинки. И только тетки Марусины, самые старшие среди двоюродных толкачей, устояли против ветров и удержались на отчей земле.
В деревню я наезжал под воскресенье порыбачить и обычно останавливался у тетки Маруси: у нее было не так людно и всегда находился угол для ночлега. Тетка Маня являлась старшей из моих деревенских теток, и в то время, как у других ребятня еще только подрастала, а дома походили на гудящие ульи, в ее старенькой вдовьей хате заметно поубавилось колготы. Двое - Севка и Колька уже служили в армии, где-то в Восточной зоне Германии, дома оставались только Сашка да младшая Нинка.
Правда, я все реже наведывался в исконные места. После смерти дедушки главной моей привязанностью в деревне оставалась река. На ней, некогда раздольной и обильной, с заливными покосами, под многоопытным взором деда учился я глядеть и слушать, угадывать рыб по одному только всплеску, ставить в лопушистых затонах верши, которые перед тем вместе плели из пахучей ошпаренной кипятком лозы, держать в руках косье и узкое прогонистое весло, править им с кормы, гребя только по одному борту, удерживая на стрежне тяжелую плоскодонку с сеном. В вешний разлив река взбухала по самый порог, и мы с дедом ночи напролет просиживали на полузатопленном крыльце, отпихивая баграми призрачно белевшие льдины, дабы не боднули они угол избы, не своротили ее напрочь, и было слышно, как над глухим урчаньем воды, над тяжким стоном матерых крыг все тянули и тянули к северу, устало перекликаясь, косяки гусей и уток.
Вскоре после кончины дедушки Сейм наш на моих глазах стал сдавать, утрачивать былую полноводную степень, неопрятно и дико зарастать долгими космами водорослей и, никогда не спешивший, униженно побежал на проступивших меляках, засуетился в травяных тенетах, и пошли-поперли по нему пески, уже на другой год буйно закипавшие дурнишником и болиголовом. И там, где прежде с опасливым всхрапом переплывали в луга деревенские кони, ныне на одной ноге стояла цапля, выглядывая в липкой тине лягушат. Трудно было поверить, что еще до войны здесь заводили невод и в помощь дюжине мужиков, тянувших бечеву, впрягали в придачу и лошадь. Помню, как закипала рыба в сомкнутом кошельке, как свечками выбрасывались бронзовые тела карпов, и рыбаки в исподнем белье забегали по мелкому и начинали лупить веслами по воде, отпугивая карпов от берестяных поплавков, не давая им выпрыгивать из невода. Рыбу высыпали в лодку, и дедушка отвозил ее на деревню делить между артельщиками, где у причальных мостков уже толпились бабы с корзинами и лукошками, а я сидел на носу лодки, опустив босые ноги в парное, бьющее хвостами серебро... Еще кое у кого можно найти на чердаках и поветях трухлявистое полотно сетей, вентеря и мережи, но с деревенского стола уже давно ушла рыба, из которой бабушка стряпала пироги, залитое яичницей жарево, томленные в молоке котлеты. Ныне все это заменила хамса, килька "на рупь сто голов", как называет тетка Вера.
Ко времени моего рассказа на прежних толкачевских тонях кое-где остались разрозненные ямки, в которых держалась одна только мелкота, и я, навьючив свой велосипед всякой рыбацкой всячиной, все чаще стал миновать заречье Толкачево, ночуя у дальних мельничных омутов, еще хранящих некую первозданность.
* * *
Но не о рыбе речь. О ней помянулось к слову, мне же хотелось сказать, что ту майскую ночь коротал я на мельничном плесе, пробовал ставить подпуска, весь продрог, лазая в темноте по мокрым от росы лознякам, и утром, уже по солнцу, сморившему меня своим теплом, отправился восвояси: на этот раз через деревню, дабы передать тетке Мане растирку от ревматизма, приготовленную моей матушкой из бог весть каких снадобий.
Еще издали я увидел у ворот кучку народа, под ложечкой нехорошо похолодело, но вскоре с облегчением уловил пиликанье гармошки. Над печной трубой курчавился единственный во всем уличном порядке поздний дымок, и вместе с ним напахивало какой-то стряпней.
От самой войны в этой избе не заставал я гульбищ, ни в Май, ни в Октябрь, ни в Христов день, не видел я тетку иначе как в расхожем одеянии, а тут, когда я уже подруливал к подворью, вдруг из толпы вывернулась сама Маня с коромыслом и ведрами, и была она в белом платочке и новом бумазейном платье, красном и жарком, странно неузнаваемая, нелепая, не своя. Кто-то из молодых девчат отнял у нее ведра и побежал к реке за водой, а разнаряженная Маня, оставшись без дела, медленно, напряженно, держась рукой за поясницу, стала пристраивать себя на скамейку рядом с гостями, но, разглядев меня, всплеснула руками и валко поковыляла навстречу.