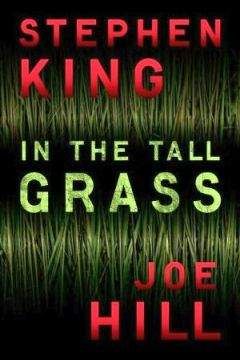Евгений Носов - Два сольди

Обзор книги Евгений Носов - Два сольди
Носов Евгений Иванович
Два сольди
Евгений Носов
Два сольди
...Синьоры! Прошу вас выслушать мою песню,
даже если она стоит всего два гроша...
Из вступления к песне
Во времена недолгой хрущевской ростепели модная тогда итальянская песенка, как неудержимый заморский насморк, прокатилась по нашим городам, перелихорадила почти всех школьных выпускниц, взвинтила пыль на уличных танцплощадках и ко времени событий, о которых я собираюсь поведать, выплеснулась на деревенские просторы. Захлестнула она и наше тихое, засмиревшее было Толкачево. Не раз слышал я, как среди ночи сквозь лунную сверчковую звень вдруг чья-то неприкаянная девичья душа выстанывала, как боль:
Эта песня за два сольди, за два гроша,
С нею люди вспоминают о хорошем.
И тебя вздохнуть заставит тоже
О твоей беспечной юности она.
И до сих пор не пойму я, чем эта песня неаполитанских окраин задела русского человека? Мода модой, но, видно, было в ней какое-то созвучное откровение, совпадение душевного апогея.
В то время я еще не стеснялся ездить в свою деревню на велосипеде, купленном на толкучем базаре за триста дореформенных рублей. Машина (тогда велосипеды уважительно называли машинами) заметно восьмерила передним колесом, но в остальном была вполне исправна и верой и правдой прослужила мне еще несколько сезонов, пока я не лишился ее по своей же оплошности: как-то оставил велик у входа в магазин, и, когда вернулся с куревом, его уже не было на прежнем месте... О пропаже заявлять в милицию не стал, поскольку и сам со дня покупки ездил без номера и не хотелось выслушивать нравоучений по этому поводу. Да и вообще приспела пора расстаться с таким видом транспорта: меня уже стали попечатывать в столичных журналах, и я приосанился и посолиднел.
Но это со мной произошло несколько позже, а тогда, во времена нашествия "Двух сольдей", я, как уже было сказано, еще не гнушался ездой в деревню на велосипеде, да к тому же на легкомысленно вертлявом колесе.
В деревне еще стояла наша родовая изба, хотя ни деда, ни бабки уже не было вживе, да и вообще в ней, осевшей углами, с размытой земляной завалинкой, никто не жил. Сотлел, струхлявился и рассыпался в прах плетень, обвалился и пересох колодец, куда-то исчез амбар, где под толстой соломенной кровлей в знойную пору так приятна была прохлада. На стенах, под застрехой, некогда висели вентеря, серпы, обломанные косы, подобранные на дороге конские подковы, связки каких-то поржавевших гаек и железяк, в то время составлявших немаловажное богатство в крестьянском дворе. Внутри же амбара с деревянных гвоздей свисали до зимы ненужные армяки и полушубки, на локоть смотанные веревки, поддетые за уши дедовы сапоги, обильно смазанные дегтем, - до очередных праздников или поездки в город. Сапоги наполняли прохладную полутемь амбара густым терпким духом, которым пропитывались и одежда, и сами стены, и рассыпанные по закромам конский овес и людское жито. На месте погреба, куда всегда было заманчиво и боязно спускаться по сырой, омшелой лестнице, откуда вместе с земляным холодом разило огурцами и укропом и где среди всевозможных бабушкиных крынок, обитушков и махоток, обвязанных тряпицами, неясно брезжила дубовая кадка с белым ярящимся квасом, - на месте всего этого осталась неглубокая воронкообразная ямка, сокрытая лебедой и дурнишником. Да и весь прежний двор по самый порог одичало порос всякой пустырной одолень-травой, среди которой в заднем конце подворья, опасно накренясь, но все еще крепка и нетленна, одиноко высилась верея полевых ворот. Некогда в ее свежую дубовую плоть были заколочены тяжелые, местной ковки навесы, не одно поколение державшие тяжелые створы ворот. За ними начиналась любая моему мальчишескому сердцу дорога через огороды в поле, курчавившаяся вдоль пробитых колей молочаем и кашкой, и об эту мураву, окапанную колесным дегтем, всегда марала свои белые "чулки" дедушкина Буланка. Верхний крюк-навес все еще торчал из окаменелой, глубоко растрескавшейся вереи, походил на причудливый нос, и этим своим носом, вековой окаменелостью и наклоном над давно исчезнувшей дорогой одинокий воротный столб напоминал мне древнего языческого бога. По столбу еще долгие годы каждое лето карабкался к солнцу розовый вьюнок, но и он, забитый бурьянами, со временем иссяк и перевелся.
Сама же изба, с одного края раскрытая, с обнажившимися ребрами стропил, выглядывала из-за обступившей ее крапивы незрячими бельмами заколоченных окон, и на одной из них мелом по куску железа нетвердой детской рукой была начертана грустная истина:
В етем доми ни кто нежывет.
Иногда я заводил свой велосипед в крапиву, садился на кишевшую земляными осами завалинку и пытался найти в себе созвучие с этим распавшимся миром. Его развалины удручали своей бренной никчемностью: за отвалившейся глиной проступали кривулистые, кое-как прилаженные друг к другу бревешки сруба; низкие оконца кто-то из предков пытался приукрасить наличниками, и было видно, что все эти зубчики и трефовые крестики не очень-то ладно и умело резались ножом и выглядели теперь откровенно аляповато; в крапиве валялись глиняные черепки от прежней утвари, драный, должно быть дедушкин, сапог, побитая ржавчиной самоварная труба, и сквозь дыры в ее боках просочилась какая-то бледная травка... Такими же никчемными - из хвороста, глины и коровьего помета - стояли во дворе сараюшки, клуня, курятник, ничем не покрытое отхожее место. Да и погреб, прежде казавшийся мне пугающей преисподней, в сущности, был обыкновенной ямой, обставленной подгнившими снизу дубовыми кольями.
Так бывает обнаженно ничтожен спущенный пруд, когда ходишь по его дну с чувством разочарованного удивления и обмана. Все, что прежде представлялось таинственным - темнеющая глубина, космы утреннего тумана, опрокинувшиеся облака, - с уходом воды оказалось скучным и жалким углублением с растрескавшимся дном, по которому равнодушно расхаживают вороны, выклевывая из трещин высохших мальков.
* * *
Из семерых дедушкиных детей дядя Илья был единственным сыном, а стало быть, и прямым наследником родового гнезда, поскольку девки с замужеством уходили из дому и жили в чужих семьях. Самая старшая, мать моя, отделилась еще в двадцатые годы, и мы перебрались в город, откуда я потом, мальцом, навещал деда и подолгу жил у него.
В самом начале тридцатых женился и дядя Илья, привез в дом молодайку из дальнего села - рослую рукастую девку с холеной косой. Помню, как играли свадьбу, как по последней санной дороге привезли горбатый сундук с приданым, покрытый домотканой попоной и веревками привязанный к розвальням. Грива Буланки по этому случаю была заплетена в мелкие косицы, украшенные шелковыми лентами. Такой же кумачовый бант красовался с левой стороны дяди-Илюшиной суконной фуражки. Помню шумную свадебную тесноту в избе, где под низкими потолками скопилась и смешалась испарина разгоряченных тел, браги, селедочного уксуса, огурцов и капусты, каленого духа печи, двое суток перед тем выпекавшей хлебы, пироги с горохом и картошкой, томившей гречишную соломать с калиной. Помню, как визгливо пиликали скрипки и бухал барабан нанятых цыган, как кто-то время от времени выскакивал из-за стола и, гикая, топотал сапогами, заставляя испуганно мигать керосиновые лампы, развешанные по стенам. На другой день невыспавшиеся гости доедали и допивали вчерашнее, бросали в стоявший на вышитом рушнике поднос серебряную мелочь, а то и бумажки и, откупив таким образом право, били об пол посуду, а потом под хмельной перепляс с хрустом дотаптывали черепки и осколки, выкрикивая пожелания добра и благополучия дому. Под конец дедушка в новой сатиновой рубахе, измятой и заломленной колкими складками, сам хмельной и торжественно-смущенный, преподнес молодым зыбку. Это еще была та, моя, самого первого внука, колыбелька из потемневших тесин, где я провел изначальные два-три года перед отъездом в город, я ее сразу узнал, и мне было обидно и жалко, что ее отдают какой-то чужой тетке в белом кисейном покрывале.
Один за другим родились два мальчика, сначала Колька, потом Славка. Бабушка забегала с пеленками, развешивая их по жарким плетням, и, может быть, все так и пошло бы своим чередом: росли бы наследники-внуки, трудом наживалось бы движимое и недвижимое добро. Впоследствии старую, обветшавшую избу заменили бы новым домом, возможно, даже кирпичным, с застекленной верандой, как теперь у многих в нашей деревне; вместо плетня поставили бы крашеный штакетник, а взамен земляного погреба соорудили бы бетонированный подвал с электрическим освещением; в горнице с широкими окнами и крашеными полами стоял бы непременный теперь сервант со всякими стопками на долгих ножках, телевизор показывал бы "Лебединое озеро", а Славка с Колькой в импортных джинсах возились бы во дворе с мотоциклом...
Может быть, с годами так все и сталось бы, но в самую пору отлаженной жизни вдруг грянула война, и в первые же ее месяцы дядя Илья был убит под Ржевом. Дедушка как-то враз притих, ушел в себя, а к исходу войны окончательно сдал и, похварывая, не слезая с печи, в сорок седьмом году умер. Вслед за ним простудился и умер от менингита старшенький Колька. Бабка, и до того не ладившая с невесткой, плюнула на все и уехала с глаз долой в Шепетовку, к младшей дочери. Схоронив Кольку, невестка окончательно отошла от нашей семьи. Еще крепкая, с характером баба, она выглядела себе вдовца и, забрав Славку и свой горбатый сундук, откочевала в чужой двор. Так ушла из нашего родового дома жизнь, как уходит вода из пруда, в плотине которого, городившейся не один десяток лет, роковую брешь проделала та самая похоронка на дядю Илью. И опустевшее подворье начало рушиться и зарастать скорбной травой...