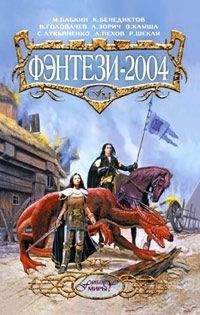Петр Краснов - Два мистических рассказа о Гражданской войне
Мы ждали его рассказа, но он не начинал его.
— Что же, Павел Николаевич… Расскажите нам про Аагоф.
— Тяжело все это, господа. Расскажу в назидание, вот таким шибзикам, как Петр Михайлович, чтобы не смеялись надо мной… Только тяжело все это рассказывать…
И Павел Николаевич опять помолчал. Петр Михайлович супным ковшом разлил по стаканам горячую жженку.
— Ну, так вот… Дело было так. Позапрошлым летом, значит, когда тут все это: митинги, грабежи, поджоги и убийства шли полным ходом, командовал я эскадроном в своем драгунском полку. Объезжая уезд, попал я в старинное имение Альт Карлгоф. Маленький каменный домик, пузатый какой-то, с неуклюжими пристройками, Петра Великого помнит. Внизу водяная мельница шумит, вся кустами заросшая. Река Аа широко разлилась вдоль запруды. Дом, крытый черепицей, окружен верандой. В том доме жил старый барон Вольф, один из ста трех баронов Вольфов, населявших Лифляндию. Когда-то служил на военной службе, благоговел перед императором Александром II, был весь обожание России и императорского дома. Внутри — чистота и старина. Портреты, миниатюры, паркетные полы навощены, кружевца — и тут же электричество и телефон.
Жил он со своею внучкой — Катхен. Высокая, белокурая, стройная, красивая и обаятельная была эта Кэт. За год перед тем Смольный институт кончила, по-русски говорила без акцента. Старик-то на этот счет хромал немного.
«Не так страшен шорт, как его малютки», — сказал он мне про латышское восстание… Кэтхен везде. Весь дом и мельница на ней… Всюду порхает и все это так умно, с русской ласковостью и с немецким педантизмом… Ну, и вот господа, сознаюсь вам — влюбился я в нее с первого взгляда. Глазки голубенькие, волосы светло-золотые и такая вся она была нежная — незабудка полевая. Зачастил я туда. Эскадрон в тринадцати верстах стоял — недалеко. Она никого не видала, оценила мою старую, верную любовь. Осенью мы объяснились. Дед не ломался — и стали мы — жених и невеста. А тут подошла зима и с нею самое горячее время. Митинги и речи дали свои плоды. В Туккуме зарезали наших драгун. Кругом пошло светопреставление. Обещал я своей Кэт провести с нею Рождество. Да к Рождеству эскадрон мой раздергали по постам и по разъездам. Весь декабрь мы не расседлывались.
Хаос, безначалие, безвластие были полные. В Вильне полиция и пехота отдавали честь процессиям с красными флагами. И пошло: качай, валяй — грабили, жгли, убивали, вешали — все во имя свободы. Все офицеры мои на Рождество были разосланы с разъездами кто куда. Я один остался. Со мною тринадцать драгун. Ходил, ходил я по маленькой комнатке волостного правления, где висел телефон и где была моя канцелярия, томился. Подошел к окну. Холодный ветер завывает в кустах, машет голыми прутьями. Посмотрел на градусник — было тринадцать градусов мороза. Подходила полночь. Томила меня, господа, в эти часы почему-то тоска необъяснимая. Все думал о моей маленькой Кэт — полевой незабудке.
В соседней комнате вахмистр, ординарец и трубач дружно храпели. Меня стало клонить ко сну. Вдруг как-то странно зазвонил телефон, медленно и необыкновенно ровно. Будто кто-то очень слабой рукой вертел его ручку. Я схватил трубку.
Говорила Кэтхен. Но голос ее доносился так слабо, точно не тринадцать верст, а тридцать миллионов верст нас разделяло.
— Павел Николаевич, приезжайте сейчас.
— Дорогая, не могу.
— Ради Бога!
— Не могу. Я остался один.
— Это ужасно. Хотя на минуточку. Так хочется с вами проститься. Завтра я уезжаю.
Но, заметьте, господа, между нами не было никакой речи о ее отъезде. Она никуда не собиралась.
— Что случилось?
— Увидите сами. Приезжайте.
— Кэт, сейчас не могу. Говорили с дедом? Когда назначили свадьбу?
И чуть слышно донеслось до меня:
— Когда часы пробьют тринадцать…
Тут нас кто-то разъединил. Два мужичьих голоса по-немецки говорили о свиньях, о соломе, о навозе и о латышах…
Как ни пытался я снова соединиться с Альт Карлгофом, мне его не давали. Я простоял у трубки полчаса. Мне отвечали недовольно и грубо из Синодена, Смильтена, Рамкау… Альт Карлгоф молчал. Мне кажется, что, если черт захочет шутить над человеком, — лучше нет, как шутить телефоном. Изводящая штука!
Все это так подействовало на меня, что я разбудил вахмистра и ординарца, сдал вахмистру охрану местечка, приказал поседлать лошадь и поскакал в Альт Карлгоф.
Было за полночь. Ни одна собака на меня не залаяла. В лесной чаще, в низине, над замерзшей рекой одиноко стоял темный замок. Три окна зала были ярко освещены. Страшное предчувствие охватило меня. Я соскочил с лошади, привязал ее у подъезда и стал стучать. За дверью сейчас же раздались шаги.
— Кто там?
Спрашивал старый барон. Я ответил. Барон отворил дверь. Он был в охотничьем костюме, с ружьем в руках с блуждающими дикими глазами. Он походил на сумасшедшего.
— Ты?! — дико крикнул он. — Поздно… Поздно…
Он схватил меня за руку и повел в дом. Посредине широкой, низкой залы между чадящих свечей, на табуретках стоял мелкий досчатый гроб. В нем лежала моя Кэт.
Я стал на колени, прижался губами к маленькой, холодной руке. Спросил тихо, точно боясь ее потревожить:
— Когда? — Вчера утром… Латыши… Все меня покинули. Прислуга ушла… Ее, ангела, зарезали.
— Вчера?. Но час тому назад она говорила мне по телефону.
Старик замахал упрямо руками.
— Вчера… Ножом в сердце. И не вскрикнула. Ограбили…
Я отдернул покров, покрывавший покойницу. Кэт лежала в окровавленном платье — в том самом, в котором ее зарезали. Кровь потемнела и заскорузла.
— Телефон давно обрезан, — как во сне слышал я слова старого барона. — Они вот-вот вернутся. Я достал гроб через мельника… Надо торопиться похоронить, чтобы не надругались… Хорошо, что ты приехал.
Мы взяли заступы и лопаты и пошли к фамильному склепу, бывшему в глубине большого сада, до рассвета мы провозились, отрывая неумелыми руками могилу.
Когда все было готово для погребения, мы пошли за дорогою покойницей. Мы стояли над нею. Молились каждый по своему. И сквозь молитву билась в моей голове мысль: «Как же мог я слышать ее по телефону, когда с утра обрезаны провода? Когда утром ее убили?»
Господа, в эти часы я познал ужасное значение слова: «убили!» Вчера утром живая, молодая, полная сил — она начала писать мне письмо. Вчера кровь бегала по ее телу, согревая его, наливая краской ее щеки и губы, и она цвела, как прелестный цветок, а сегодня холодная, мертвая, залитая кровью с посинелыми губами недвижная и тяжелая, она сиро, одиноко лежала в гробу, такая ненужная…
В ушах все слышался ее далекий, слабый ответ на мой вопрос — когда же свадьба?
— Когда часы пробьют тринадцать!
Я метался, не зная, что предпринять. Кругом никого. Все разбежались. Может быть, попрятались в лесу и сторожили, чтобы напасть и ограбить замок. Послать некого, телефонные провода беспомощно висели со столбов и частью были увезены.
Скакать самому за подмогой? Но как оставить драгоценный прах и барона одного в замке? Барон подошел ко мне. Он положил мне руку на плечо и сказал:
— Идем.
Мы подняли гроб и понесли его к склепу. Было светло. Был день, когда мы заделали могилу и возвращались к замку. И едва вошли, как по парку замелькали темные фигуры бегущих людей. Загремели выстрелы. Латыши напали на замок.
Барон упал убитый. Меня ранили в плечо, но я пробился к лошади и ускакал…
Через два часа, когда, изнемогая от боли, привел своих драгун, — замок догорал, везде были видны следы разрушений. Я кинулся к склепу — он был не тронут. Мы помешали надругаться над мертвыми…
Подполковник замолчал. Он сидел, грустно склонившись лицом на ладони. Мы все притихли. Угли камина бросали на нас кровавые отблески, синее пламя, догорая, вспыхивало прозрачными волнами на бурой скале обгорелого сахара.
— Когда часы пробьют тринадцать, — как бы про себя прошептал подполковник.
В ту же минуту большие часы начали ржаво бить полночь.
Корнет Лещинский считал удары.
— Раз… два… три… одиннадцать… двенадцать…
Ржавое скрипение колес внутри старых часов не прекращалось. Часы пробили… тринадцать.
Мы были, как пришибленные. На подполковнике не было лица. Он сидел, подняв голову, и смотрел на пустое кресло против себя.
— Ну, что же? — криво усмехаясь, не своим голосом, сказал Лещинский. — Чепуха! И нас тринадцать!
— Нет… смотрите… — ужасным голосом воскликнул де Шеней. — Нас… четырнадцать!
На кресле, поставленном для Карла Васильевича, на тяжелом кресле, с трудом придвинутом нашими двумя силачами — Петром Михайловичем и Дерновым, мутно колебался призрак. Мы все, как оказалось потом, видели его. Полупрозрачная, закутанная в какие-то неопределенные серые ткани, почти бесформенная женская фигура то становилась отчетливее, то исчезала, точно растаивала. Она поднялась. Из мглы как будто блеснули глаза. Тяжело, с грохотом отодвинулось кресло… Фигура исчезла… Секунды три спустя, где-то вдали пронесся страшный, звенящий, все удаляющийся стон, точно лопнула струна. Тяжелая замковая дверь хлопнула. Зимний холод ворвался в зал.