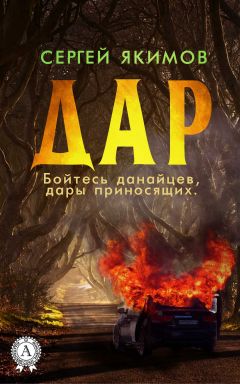Юрий Бессонов - Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков
Надо было есть и я зарабатывал себе хлеб пилкой дров. Взял подряд и работал с 6-ти утра до 6-ти вечера. Труд этот казался даже приятным. Выматываясь физически, я не замечал окружающего.
В городе жил генерал, признавший власть советов. Он узнал о моем пребывании здесь и вызвал к себе. Я пришел и получил предложение вступить в формировавшуюся тогда красную армию на командную должность. Отказался. Он настаивал, уговаривая. Я категорически отказался и продолжал жить работой, оторванный от жизни, почти ни с кем не видясь.
Летом мой заработок совсем упал и я решил попробовать заняться торговлей или вернее спекуляцией.
В это время ко мне приехал мой приятель ротмистр Владимир Николаевич Юрьев. Он был мой друг. Мы вместе росли, знали друг друга и наша жизнь складывалась так, что в исключительные моменты судьба сталкивала и связывала нас.
Высокий, худой, черный, с сухим упрямым лицом. Большой силы воли, часто переходящей границу и впадающей в упрямство, очень выдержанный, всегда наружно спокойный, он был вместе с тем, чрезвычайно чуткий человек и порядочный, с большим размахом, товарищ. Как к себе, так и к людям, в то время, он относился очень строго и последнее обстоятельство ему много портило в жизни.
Я его высоко ценил.
В августе я съездил в Петроград, где мне удалось достать сахарину. В Сольцах я его удачно обменял на хлеб.
Казалось дело наладилось, и я вскоре вновь отправился в Петроград, не подозревая, что этим путешествием заканчиваются мои последние дни на свободе.
Первые тюрьмы
Дело было так.
Я возвращался в наш городок с новой партией сахарина.
Было раннее утро. Я вышел на станцию и направился к извозчичьей бирже. Народу было мало. Передо мной вертелся какой-то маленький человек, на которого я обратил внимание только потому, что он был горбатенький.
Я сел на извозчика, сказал ему свой адрес и поехал. На нашей окраине извозчики были редкостью и меня удивило что за мной все время слышался стук разбитой извозчичьей пролетки. Оглянувшись я увидел горбача.
Все еще ничего не подозревая я вошел в свою комнату и застал в ней хаос... Все было перерыто. Прибежала хозяйка и сообщила мне об аресте Юрьева.
«Горбач — сыщик, — я попался, как маленький», мелькнуло у меня в голове. «Нужно не медля идти пешком на ближайшую станцию, сесть на поезд и ехать обратно в Петроград».
«Но Юрьев без денег, у меня сахарин», — и мне захотелось передать его моим знакомым.
Я вышел в сад, перелез через забор, вышел на реку и окружным путем пошел к нашим общим друзьям.
Вошел, поздоровался... И сейчас же стук в дверь. На пороге чекисты, с горбачем во главе... Ордер Чека на мой арест и обыск у меня на квартире.
Досадно... Пришлось подчиниться и я, окруженный тремя чекистами, снова пошел к себе.
Впервые я шел по улице, как арестант. Было неприятно и как-то обидно, что не сумел уйти от чекистов.
В уме я перебирал какое серьезное обвинение мне может быть предъявлено.
У меня было три вины перед советской властью.
Первая моя вина состояла в том, что в начале революции я был в числе организаторов одного из военных союзов.
Революция и последовавший за ней развал армии пошли из Петрограда. Оттуда же пошла волна развала на фронт.
Тогда, казалось, нужно было соединить фронт с общественными деятелями и в том же Петрограде поднять другую волну — волну оздоровления, которая могла бы докатиться до фронта.
На одном листе бумаги, под доверенностью, которая давала мне право выпускать воззвания для продолжения войны с немцами, мною лично, были собраны подписи политических и общественных деятелей, начиная от председателя Гос. Думы М.В. Родзянко, первого военного министра революции А.И. Гучкова, П.Н. Милюкова, В.В. Шульгина, писателя Леонида Андреева, включая старых социал-демократов Г.В. Плеханова, Л. Г. Дейча, Веры Ив. Засулич, политических каторжан Н.А. Морозова, Германа Лопатина, Новорусского и кончая соц.-революционерами Б. Савинковым, Брешко-Брешковской и анархистом П. Кропоткиным.
Мы имели на своей стороне приблизительно 20% гарнизона. В нашей подготовке мы уже дошли до того, что нам оставалось только сообщить день выступления в воинские части, но тут то и произошла та заминка, которая обрекла весь наш план на полную неудачу. В последнюю минуту Волынский полк заколебался и попросил отложить день выступления. Это так подействовало на участников союза, на воинские части, что вся наша организация рухнула, как карточный домик.
Вторая моя вина заключалась в том, что я находясь в Черкесском полку Туземной дивизии, участвовал в походе ген. Корнилова на Петроград в августе 1917 года.
В Петрограде было неорганизованное офицерство. Нужна была точка опоры, вокруг которой оно могло объединиться. Таковой являлась наша Туземная дивизия. Моя уверенность в пользе и в успехе выступления была настолько велика, что я, будучи ночью дежурным на телеграфе, изменил одну из телеграмм ген. Корнилова, чтобы сильнее подействовать на наше командование в сторону выступления.
Мы дошли до Петрограда и, несмотря на то, что от наших разъездов в 10 коней бежали целые полки, возглавляемые Черновым и К-о, повернули на Кавказ.
Наконец, третья моя вина перед Сов. властью состояла в том, что я, будучи в хороших отношениях с Командующим войсками Петрогр. Воен. Окр. полковником Полковниковым, зашел к нему в штаб накануне большевицкого переворота и был назначен помощником коменданта Зимнего Дворца и, таким образом, участвовал в его защите при взятии его большевиками.
Однако, ни одно из перечисленных преступлений ни разу не было причиной моего заключения, ни разу не инкриминировалось мне, и не об одном из них Советская власть не знала.
На деле оказалось, что единственной причиной, которая повлекла за собой такие большие для меня последствия, была моя вина в том, что я в свое время кончил Кадетский Корпус, Кавалерийское Училище, был офицером и честно всю Великую войну пробыл в строю.
Наша комната была уже перерыта и я не понимаю для чего нужно было делать этот вторичный обыск. Очень скоро я понял, что не во всех действиях большевиков можно найти смысл.
Как потом оказалось, Юрьев ловко руководил обыском, останавливая внимание чекистов на неважных вещах и талантливо оперировал с кой-какими компрометирующими нас документами, засунув их в газеты, лежавшие тут же. У меня были отобраны кинжал и какие-то письма и на них была выдана расписка, которые так щедро раздают чекисты, причем получать потом вещи по этим распискам никогда не удается.
Наконец, в 11 часов утра, обыск был кончен и в 12 часов дня я, в первый раз, вошел в тюрьму.
Это была моя первая тюрьма, и тогда мне и в голову не приходило, что она только начало моего долгого скитания по тюрьмам. Мне все казалось, что это только недоразумение, которое быстро рассеется. Как часто потом видел я в своих тюрьмах таких «новичков», которые так же думали, и, как часто, мне приходилось наблюдать их разочарование.
Тюрьма была низенькая, маленькая, старенькая. Над зданием возвышался купол и крест тюремной церкви.
Кругом шла маленькая стена. За ней снаружи стоял домик начальника тюрьмы, окруженный толстыми липами.
Камера, куда меня ввели, была большая комната с обыкновенными окнами за решеткой, с истертым полом, совершенно голая и какая-то пустая, необитаемая.
Посреди нее стоял массивный стол и две скамейки.
Войдя туда, я увидел, что здесь весь наш город. Бывшие офицеры, судьи, два нотариуса, торговцы, два доктора с сыновьями студентами и Юрьев. Странно было видеть этих людей с интеллигентными лицами, в прежней одежде, лежащими и сидящими в разных позах на полу...
Я поцеловался с Юрьевым и он мне рассказал все что произошло в мое отсутствие.
Оказывается, что в одни сутки арестовали всех офицеров, буржуазию и «аристократию». Обвинения всем были предъявлены разные: с буржуазии просто требовали денег. Одного из судей обвиняли в том, что он, срывая колосья на полях, воровал у крестьян хлеб. Нотариусов прижимали, требуя от них, чтобы они рассказали о коммерческих делах буржуазии...
Наше дело, а в частности Юрьева, было чрезвычайно глупо, но вместе с тем серьезно. У него якобы был найден «манифест» Ленина, в котором высмеивалась большевицкая идеология. Ему предъявили обвинение в агитации и пропаганде против Советской власти.
Манифест был у него найден, переписанный на машинке в трех экземплярах. Искали машинку, на которой он был размножен и тем хотели открыть его сообщников. Очевидно и я попал как сообщник этого преступления. Обвинение было глупо, но не так смотрели на дело наши следователи. Юрьеву на допросе прямо заявили, что его преступление настолько важно, что местные власти не могут взять на себя решение его участи и должны отправить его в Петроград. Это была какая-то странная, сумбурная и перепуганная психология людей совершенно неуверенных ни в своей силе, ни в своей власти.