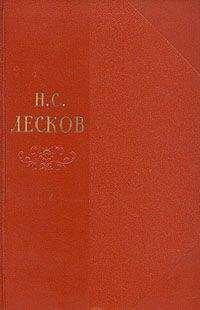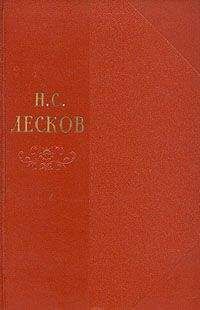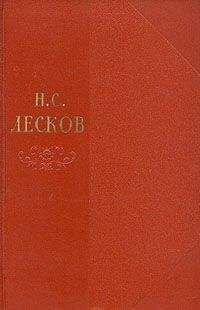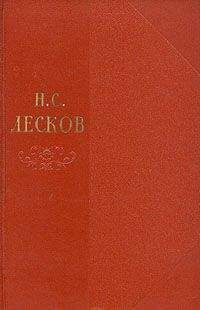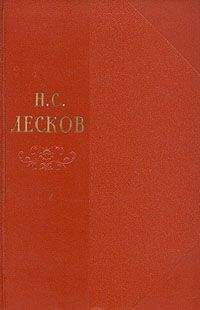Николай Лесков - Том 2
Кругло говоря, и Никитушка и Марина Абрамовна были отживающие типы той старой русской прислуги, которая рабски-снисходительно относилась к своим господам и гордилась своею им преданностью. И тот и другая сочли бы величайшим преступлением, достойным если не смертной казни, то по крайней мере церковной анафемы, если бы они упустили какой-нибудь интерес дома Бахаревых или дома смотрителя уездного училища, Гловацкого. Дружба старика Бахарева со стариком Гловацким, у которого Бахарев нанимал постоянную квартиру, необходимую ему по званию бессменного уездного предводителя дворянства, внушала им священное почтение и к старику Гловацкому и к его Женичке, подруге и приятельнице Лизы.
Теперь тарантас наш путешествует от Москвы уже шестой день, и ему остается проехать еще верст около ста до уездного города, в котором растут родные липы наших барышень. Но на дороге у них близехонько есть перепутье.
Глава третья Приют безмятежныйСпокойное движение тарантаса по мягкой грунтовой дороге со въезда в Московские ворота губернского города вдруг заменилось несносным подкидыванием экипажа по широко разошедшимся, неровным плитам безобразнейшей мостовой и разбудило разом всех трех женщин. На дворе был одиннадцатый час утра.
— Город? — спросила, проворно вскочив, Лиза Бахарева.
— Город, матушка, город, — отвечала старуха.
— Город! Женни, город, приехали, — щебетала Лизавета Егоровна, толкая уже проснувшуюся Гловацкую.
— Слышу, Лиза, или, лучше сказать, чувствую, — отвечала та, охая от получаемых толчков, но все-таки еще придерживаясь подушки.
— Тоже мостовою зовется, — заметила Лиза.
— И, матушка, все лучше болота, что у нас-то в городе, — проговорила няня.
— Да у нас, няня, разве город?
— А что ж у нас такое, красавица?
— Черт знает что!
— Ну, ты уж хоть у тетеньки-то этого своего черного-то не поминай! Приучили тебя экую гадость вспоминать!
Девушки засмеялись, и Гловацкая, вставши, стала приводить себя в порядок.
Между тем тарантас, прыгая по каменным волнам губернской мостовой, проехал Московскую улицу, Курскую, Кромскую площадь, затем Стрелецкую слободу, снова покатился по мягкому выгону и через полверсты от Курской заставы остановился у стен девичьего монастыря.
Монастырь стоял за городом на совершенно ровном, как скатерть, зеленом выгоне. Он был обнесен со всех сторон красною кирпичною стеною, на которой по углам были выстроены четыре такие же красные кирпичные башенки. Кругом никакого жилища. Только в одной стороне две ветряные мельницы лениво махали своими безобразными крыльями. Ничего живописного не было в положении этого подгородного монастыря: как-то потерянно смотрел он своими красными башенками, на которые не было сделано даже и всходов. Ничего-таки, ровно ничего в нем не было располагающего ни к мечте, ни к самоуглублению. Это не то, что пустынная обитель, где есть ряд келий, темный проход, часовня у святых ворот с чудотворною иконою и возле ключ воды студеной, — это было скучное, сухое место.
В двух стенах монастыря были сделаны ворота, из которых одни были постоянно заперты, а у других стояла часовенка. В этой часовенке всегда сидела монашка, вязавшая чулок и звонившая колокольчиком, приделанным к кошельку на длинной ручке, когда мимо часовенки брел какой-нибудь прохожий. Возле часовни, в самых темных воротах, постоянно сидел на скамеечке семидесятилетний солдат, у которого еще, впрочем, осталось во рту три зуба. Он тоже обыкновенно вязал шерстяной чулок, взапуски с монашкой, сидевшей в часовне. Каждый вечер они мерялись, кто больше навязал, и или монашка говорила: «Я, Арефьич, сегодня больше твоего свезла», или Арефьич объявлял: «Сегодня я, мать, больше тебя свез».
Завидя подъезжавший тарантас, Арефьич вскинул своими старческими глазами, и опять в его руках запрыгали чулочные прутья; но когда лошадиные головы дерзостно просунулись в самые ворота, старик громко спросил:
— Кого надо?
— Своих, своих, — отвечал, не обращая большого внимания на этот оклик, Никитушка.
— Кого своих? — переспросил Арефьич и, отбросив на скамейку чулок, схватил за повод левую пристяжную.
Монашка из часовни выскочила и, позванивая колокольчиком, с недоумением смотрела на происходившую сцену. Из экипажа послышался веселый хохот.
— Что ты! леший! аль тебя высадило? — кричал с козел Никитушка на остановившегося в решительной позепривратника.
— Да так, на то я сторож… на то здесь поставлен… — шамшил беззубый Арефьич, и глаза его разгорались тем особенным огнем, который замечается у солдат, входящих в дикое озлобление при виде гордого, но бессильного врага.
— Чего, черт слепой, не пустишь-то?
— Не пущу, — задыхаясь, но решительно отвечал опять Арефьич. — Позови кого тебе надо к воротам, а не езди.
— А, крупа поганая, что ты, не видишь?..
— Да чьи такие вы будете? Из каких местов-то? — пропищала часовенная монашка, просовывая в тарантас кошелек с звонком и свою голову.
— Да бахаревские, бахаревские, чтой-то вы словно не видите, я барышень к тетеньке из Москвы везу, а вы не пускаете. — Стой, Никитушка, тут, я сейчас сама к Агнии Николаевне доступлю. — Старуха стала спускать ноги из тарантаса и, почуяв землю, заколыхала к кельям. Никитушка остановился, монастырский сторож не выпускал из рук поводьев пристяжного коня, а монашка опять всунулась в тарантас.
— Из Москвы едете-то? — спросила она барышень.
— Женни, тебя спрашивают, — сказала Лиза и, продолжая лениться, смотрела на тиковый потолок фордека.
Гловацкая посмотрела на Лизу и вежливо ответила монахине:
— Из Москвы.
— В ученье были?
— Да, в институте.
Монахиня помолчала, а через несколько минут опять спросила:
— А теперь к кому же едете?
— Домой, к родителям, — отвечала Женни.
— Сродственников имеете?
— Да.
— Зачем это у вас в ворота не пускают? — повернувшись к говорившим, спросила Лиза.
— Как, матушка?
— Не пускают зачем? кого боятся? кого караулят?
— Н…ну, такое распоряжение от мать-игуменьи.
По монастырскому двору рысью бежала высокая весноватая девушка в черном коленкоровом платье, с сбившимся с головы черным шерстяным платком.
— Пусти! пусти! Что еще за глупости такие, выдумал не пущать! — кричала она Арефьичу.
— Я на то здесь поставлен… а велят, я и пущу, — ответил солдат и отошел в сторону.
Рыжая, весноватая девушка мигом вспрыгнула в тарантас и быстро поцеловала руки обеих барышень, прежде чем те успели их спрятать. Тарантас поехал.
— А тетенька-то как обрадовались: на крыльцо уж вышли встречать, ожидают вас. — У нас завтра престол*, владыко будут сами служить; закуска будет и мирские из города будут, — трещала девушка скороговоркою.
Глава четвертая Мать АгнияНа высоком чистеньком крыльце небольшого, но очень чистого деревянного домика, окруженного со всех сторон акациею, сиренью, пестрыми клумбами однолетних цветов и не менее пестрою деревянною решеткою, стояли четыре женщины и две молоденькие девочки. Три из этих женщин были монахини, а четвертая наша знакомая, Марина Абрамовна. Впереди, на самой нижней ступеньке чистенького крылечка рисовалась высокая строгая фигура в черной шелковой ряске и бархатной шапочке с креповыми оборками и длинным креповым вуалем. Это была игуменья и настоятельница монастыря, Агния Николаевна, родная сестра Егора Николаевича Бахарева и, следовательно, по нем родная тетка Лизы. Ей было лет сорок пять, но на вид казалось не более сорока. В ее больших черных глазах виднелась смелая душа, гордая своею силою и своим прошлым страданием, оттиснутым стальным штемпелем времени на пергаментном лбу игуменьи. Когда матери Агнии было восемнадцать лет, она яркою звездою взошла на аристократический небосклон так называемого света. Первый ее выезд в качестве взрослой девицы был на великолепный бал, данный дворянством покойному императору Александру Первому за полгода до его кончины. Все глаза на этом бале были устремлены на ослепительную красавицу Бахареву; император прошел с нею полонез*, наговорил любезностей ее старушке-матери, не умевшей ничего ответить государю от робости, и на другой день прислал молодой красавице великолепный букет в еще более великолепном портбукете*. С тех пор нынешняя мать Агния заняла первое место в своем свете. Три года продолжалось ее светское течение, два года за нею ухаживали, искали ее внимания и ее руки, а на третий она через пятые руки получила из Петербурга маленькую записочку от стройного гвардейского офицера, привозившего ей два года назад букет от покойного императора. В этой записочке было написано только следующее: «Судьба моя решена самым печальным образом*. Не жди меня и обо мне не справляйся: это только может навлечь на тебя большие неприятности. Следовать за мной ты не можешь, да и это только увеличило бы твои страдания. Возвращаю тебе твои клятвы, прошу тебя забыть меня и быть счастливою сколько можешь и как можешь. Блаженства, которое я ощущал два года, зная, что любишь меня более всех людей на свете, достанет мне на весь остаток моей жизни, и в холодных норах ужасной страны моего изгнания я не забуду ни твоего чистого взора, ни твоего прощального поцелуя.