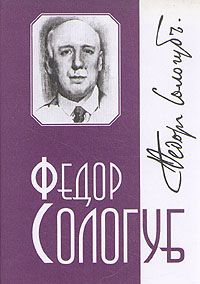Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
Замер ужас перед этим зрелищем умирания, грубого торжества мертвых сил над живою душою человека, и то, что было кратким страхом перед смертью, растворясь в томительности переживаний, стало тихим ужасом перед жизнью. Грусть сживалась понемногу с тоскующим сердцем. Так все ясно, – Шаня для Володи недостижима, другой ему не надобно, – бедное сердце навеки верно, – личное счастье невозможно.
Как же ему жить, для кого и для чего, – пока еще не знает Володя. Готовых ответов есть много, – но не верит им Володя, потому что бедное сердце перестает верить в чудо.
Скучный, унылый вид Володи Гарволина делал его в Шаниных глазах жалким, неприятным и отчасти даже смешным. Но Шаню и влекло к нему. Влекло волнующее, жуткое сознание того, что это она – причина его тоски неизбывной. Была жалость к нему, но и немножко презрения. Сравнивая Володю с собою, Шаня думала: «Я – девочка, да и то нос так не вешаю. Ну да я – сильная».
Радостно сознавая свою силу, Шаня утешала Володю, как большая маленького. Иногда так ей станет жалко Володю, что она даже поплачет о нем, оставшись одна.
Мучительна Гарволину Шанина жалость. И хочется, чтобы Шаня его пожалела, и стыдно.
Володя почему-то все вспоминал Шанин рассказ о разбитой розетке и о не свершившемся по ее молитве чуде. В Володиной душе, уже потрясенной жестоко, этот случай был как тот легкий толчок или шум, который опрокидывает подтаявший айсберг, – так рушилась в его душе старая, простодушная с детства вера.
– А я, Шанька, все про твою розетку вспоминаю, – сказал он.
– Какую розетку? – спросила Шаня.
– А вот что ты разбила и молилась, чтобы она срослась. Не срослась розетка, не было чуда, вместо чуда была тебе мука. А что, Шанька, если и всегда так на этой земле? Что, если чуда не было никогда и не будет? Ведь тогда и жить нельзя. Как же нам всем жить без чуда!
Шаня засмеялась.
– Володенька, да ведь это – детское! Разве же статочное дело из-за шалости чуда просить! Этак бы все ребятишки избаловались.
Шаня смеялась, забыв свои те детские слезы. Володя прислушивался к ее словам, с неловким видом склонив к ней правое ухо. Подумал над Шанькиными словами, но не утешился ими. Сказал:
– Детское, говоришь? Так что же! Для Бога все мы – дети, все маленькие да слабенькие.
– Чудо будет, стоит только захотеть, – решительно сказала Шаня. Володя усмехнулся, вздохнул.
– Ну, вот ты захотела чуда, а что из этого выйдет? Призадумалась Шаня, – и как всегда, мысли ее обратились к Евгению.
– И не хочу, да вспоминаю милого, – говорила она. – Иногда так ясно его вспомню, точно он тут стоит. Только он не голубой, а отдельно. И тогда хорошо мне, и весь город здешний как большой памятник милого моего. Хожу по улицам, по дорожкам, а сама точно в храме стою. Для меня теперь каждая яблонька, с которой Женя брал яблочки, как часовенка зелененькая. И каждая вещь, которая о нем напомнит, такая милая станет, что целовать ее хочется.
– Нашла себе кумира, – сказал Володя. – Как бурятка дикая, своему идолу салом губы мажешь. Погоди, не пришлось бы тебе своего идола палкой смазать.
Шаня быстро глянула на Володю и сказала:
– Мне хочется понять Евгения хорошенько.
– Сама себя расстраиваешь, – сказал Володя. – Понять его – штука не хитрая. Мне он сначала тоже показался симпатичным, а потом я его раскусил.
Шаня призадумалась. Не слышала, что говорит Володя. Вдруг повернулась к нему и, прервав его на полслове, сказала радостно:
– У меня скоро будет праздник.
– Какой такой праздник? – невесело спросил Володя.
– Годовщинка, – с лукавою усмешкою говорила Шаня. – Год с того дня, – ну, одним словом, такая милая встреча с ним была. И сейчас, как вспомню, сердце зарадуется.
– Есть чему радоваться! – хмуро молвил Володя. Шаня вздохнула. Сказала:
– А вот поди ж ты, – и больно, и радостно. Мне, Володенька, больно, точно кто-то ножиком из сердца самую радостную половинку вырезал. Вот было, и вот нет. Просто делать ничего не хочется. И глаза бы мои не глядели на все эти вещи! Учебники пожгла бы, пошла бы к нему в прачки. Да не пустят.
– Ты – ленивая, Шанька, – сказал Володя.
Вдруг побледнев, чувствуя приступ странной злобы, он хрипло сказал:
– Иногда мне кажется, Шанька, что ты – злая.
– О, злая! – воскликнула Шаня. – Ну и пусть, и пусть злая!
– Что хорошего-то? – тихо спросил Володя. Шаня говорила:
– Если я злая, пусть я пострадаю. Пусть, пусть меня Бог накажет. А я все-таки сегодня голубенькую тень видала.
Володя сумрачно сказал:
– Никаких нет голубеньких.
– Это вот ты – злой! – сердито сказала Шаня. – Как же это так, – нет голубых? Что ж ты говоришь о том, чего не знаешь? Вот видишь, утром голубого видела, а днем от Жени письмо получила. Ну как же ты говоришь, что голубых нет? Этак ты скажешь, что и ничего нет, ни земли, ни неба? Эх ты, философ! А вот будет скоро моя годовщинка, – я эту калитку всю цветами уберу.
Володя усмехнулся и попросил:
– Покажи письмо.
– А смеяться не будешь? – спросила Шаня.
Показать Женины письма ей самой хотелось. Володя сказал угрюмо:
– Нашла зубоскала! Когда же я над тобою смеялся?
Шаня повела Володю в баньку. Сбегала за письмами. Володя прочитал оба письма. Усмехнулся. Сказал:
– Мастер улещать. Хоть бы одно слово верное написал.
– Какое же верное? – обидчиво спросила Шаня.
– А вот такое, – отвечал Володя с досадою. – «Ты обо мне, Александра, не думай, да и я тебя скоро забуду. У тебя одна дорога, у меня другая, а за прошлое спасибо, провели время не скучно».
– Ну, и злой, и злой, и злой! – закричала на него Шанечка, постукивая кулачком по ладони. – А вот буду о нем думать, буду, и он меня не забудет, не забудет, и мы будем вместе.
Володя махнул рукою:
– Ну, до свиданья, Шанечка.
Шаня поцеловала его в щеку и сказала:
– Знаю, куда ты пойдешь. К матери на могилку.
И уж не сердилась на него, опять растроганная его грустью.
Простился Володя с Шанею. Шаня пошла было проводить его до калитки, да мать крикнула ее зачем-то домой. Шаня убежала. Володя долго смотрел вслед за нею. Вздохнул и пошел. У калитки стояла нянька.
– Что, Володенька, голову повесил? – спросила старая.
– Веселого мало, няня, – сказал Володя. – Стрекоза твоя о Хма-рове думает, а он ей нос натянет.
– А ты, Володенька, не возьми моего слова в досаду, ты будь смелее, – говорила няня, – держи себя с полным своим достоинством, через кураж найдешь и марьяж. Брал бы пример с Женьки Хмарова. Барственно себя вел молодчик, – придет себе вальяжно или на лосипеде подкатит таким шкапидаром, яблоков, ягоды нашей налопается, Шаньку по румяным щечкам белыми ладошками звонко отблагодарит, да и был таков. А Шанька-то круг него каруселится, а Шанька-то к нему губарабится.
– Неужели он ее бил? – спросил Володя.
– Бить не бил по-настоящему, – отвечала старая, – а памятку задавал. Шанька-то у нас своевольница да пересмешница, любит подразнить, а ему не нравилось, потому гонор велик и гордая шишка на затылке.
От Шани Гарволин пошел на кладбище. Это была его любимая прогулка. Часто сюда приходил, почти всегда не в праздник, когда мало народу. Тайком от своих. На могилу к матери.
Пришел – и почувствовал какую-то странную усталость, точно издалека пришел.
Весною на кладбище хорошо, – это позже будет, знойным летом, что земля порою трескается и смрад могил поднимается к небесам, к золотой колеснице мертвого Дракона, влекомого незримыми конями, подобно тому, как в день великого поднятия вод по гулким улицам Древнего Города медленно влекся на торжественной колеснице мертвый деспот, разрумяненный, но зловонный, последний царь Атлантиды. А теперь нежно и легко льется в грудь воздух вешнего кладбища, и Дракон еще жив. И такая окрест отрада!
Как всегда здесь, обступили унылые думы. Володя снял шапку, сел на скамейку. Сидел, сгорбясь, как старый. Холодноватый, пустынный ветер порою приподнимал прядку волос на его лбу. В воздухе, еще пахнувшем снегом, было пусто и тихо. В сердце тупо и странно. Между могилами темнела полуобнаженная весенняя земля. По небу тихо проходили ясные тучки и словно подсматривали, что он тут делает, на могиле. Бледное небо казалось низким и тяжелым.
– Где же ты, жизнь бесконечная!
Глава семнадцатая
Вот и лето настало, знойное, яркое, страстное. Около заборов в городе буйно выросла высокая крапива. На грудах мусора зазеленели, зацвели сорные, но все же небу милые травы: чистотел, осот, марь и лебеда. Между травами созревала сочная земляника. За Шаниным садом, на тихом озере, обросшем камышом, распустились поразительные цветы желтого касатика и таинственно колебались при порывах ветра.