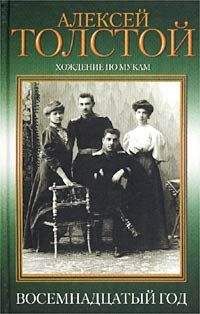Константин Вагинов - Гарпагониана
Звезды сияли над Локоновым и Анфертьевым.
Лай дворняги уже слышался где-то вдали.
Анфертьев и Локонов шли мимо огромных многоэтажных зданий из стекла, железа и бетона.
За этими зданиями, на некотором расстоянии виднелись другие такие же здания, за ними еще и еще.
Эти здания не образовывали улиц.
– Не угодно ли вам узнать, как звучат эти дома? – спросил Анфертьев.
Локонов закурил.
– Подумать только, – сказал Анфертьев, – что центр города почти не изменился с семидесятых годов. Если приехала в Ленинград какая-нибудь старушенция, не бывавшая в нем с семидесятых годов, то она почти бы и не заметила, что произошли великие перемены в мире. Она бы снова пошла по Невскому проспекту, обратила бы свое внимание на несколько новых зданий. Это были бы преимущественно банки. Она пошла бы по Надеждинской, по Вознесенскому, по Кирочной, по Шпалерной, по Жуковской, по переулкам – все, по ее мнению, осталось бы как прежде. В дни нашей с вами молодости город любил изящные и дешевые миниатюрки, город был наполнен ими. Ум и юмор служили средством к приманиванию покупателей. Например, вот в этом магазине, насколько вы помните, были такие безделушки: камердинер держит свечу и служит таким образом подсвечником, или пеликан, клювом отрезающий конец сигары.
Луна освещала Анфертьева и Локонова. Локонов молчал.
Анфертьев замолчал тоже.
«В каких же сновидениях эта местность могла бы нуждаться? – подумал он иронически. – Многие сновидения вышли из моды, например, рождественские сновидения: посеребренные ветви и шишки, елки, усыпанные несгораемой ватой. А у меня между тем порядочно такого товару! А в общем, вся моя беда в том, что я торговлю презираю. А то бы я нашел сновидения, нужные для данного времени и данной местности».
– Не кажется ли вам, – спросил он Локонова, – что торговля сновидениями – это, пожалуй, самый гнусный вид торговли? Вы нуждаетесь в определенной мечте, и я, ловкий торгаш, поставляю ее вам. Но не всегда я был таким, не всегда я промышлял торговлей. Хотели бы вы молодости? – спросил Анфертьев. – Иногда я задыхаюсь от жажды вернуть уверенность, что я на что-нибудь способен, увидеть прекрасным и достойным всевозможных усилий мир.
Локонов молчал.
– Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не в географическую, а в некую умопостигаемую Италию, под ясное не физическое небо и под чудное, одновременно физическое и не физическое солнце.
Локонов давно уже сидел на ступеньках и делал вид, что дремлет. Ему мучительно было слышать слова Анфертьева. Ведь то, что называл Италией Анфертьев, была его страна сновидений.
– И женщины в моей Италии, – продолжал Анфертьев, – совсем другие, вернее, там нет множества женщин, они все сливаются в один образ, образ той, которую мы ищем в юности.
Локонов стал слегка похрапывать, свистеть носом, но Анфертьев продолжал:
– И вот, собственно говоря, что же остается, когда мы достигаем сорокалетнего возраста или, может быть, тридцатипятилетнего возраста, от этой женщины и от этой прекрасной страны Италии. Они превращаются в сновидение, и мы начинаем предполагать, что мир вокруг зол и пошл, и прекрасное пение соловья превращается для нас в темпераментную песенку.
«Мы двойники, – подумал Локонов, – совсем двойнички, и, должно быть, детство наше и юность были в своем существе совершенно одинаковы».
Наступал рассвет.
Анфертьев, думая, что Локонов спит, и вспоминая, что сырость для спящего опасна, решил разбудить своего спутника. Анфертьев смотрел на свесившуюся голову, полуоткрытый рот, на бледное лицо тридцатипятилетнего человека. Затем гуляка подошел к парфюмерному магазину и стал рассматривать свое отражение в зеркале. Пожилой, бородатый оборванец с красным носом стоял в магазине.
– Да, – сказал Анфертьев и стал будить Локонова.
– А? – произнес Локонов, делая вид, что просыпается. Затем он, как бы бессмысленно, посмотрел на будившего. Но постепенно глаза Локонова стали приобретать осмысленное выражение, затем он поднялся.
– Где мы? – спросил Локонов.
– Уже утро, – вместо ответа сказал Анфертьев. – Идемте, опохмелимтесь. Одна старушка недалеко здесь шинкарствует.
«Из любопытства, что ли, пойти?» – подумал Локонов. Возвращаться домой ему не хотелось.
– В трактире выпить, конечно, веселее, там, знаете, как-то все ироничнее воспринимаешь. Например, пиджак кто-нибудь за четыре кружки продает, и вообще все окружено какой-то дьявольской атмосферой. Ну что ж, выпьем у шинкарки, а потом и в пивную пойдем, а после на рынок отправимся, послушаем уличное пение, увидим плачущих слушателей, а потом пойдем покатаемся на каруселях, покачаемся на качелях под разбитую музыку и поглядим сверху на народ, толпящийся вокруг.
Локонов согласился с этим планом.
Анфертьев и Локонов сидели верхом на лошадках, неслись по воздуху под украшенным бисером балдахином. Изнутри неслась музыка, впереди неслась нежно обнявшаяся парочка.
Торгаш и покупатель опьянели, музыка, несшаяся изнутри карусели, казалась им народной и почти прекрасной.
Торгашу и покупателю хотелось нестись и нестись, вылететь на какой-то простор и лететь, лететь ради самого полета.
Музыка смолкла. Карусель остановилась.
– Куда же мы теперь пойдем? – спросил Локонов, слезая с коня.
На следующее утро, проснувшись, Локонов вспоминал, что он вчера вместе с Анфертьевым попал к девицам, что было там очень много выпито, что девицы пели какие-то дикие романсы, что Анфертьев, аккомпанируя себе на гитаре, украшенной ленточками, пел какую-то итальянскую арию из какой-то забытой оперы, что потом пошла какая-то дикая возня.
Как он попал в свою комнату, Локонов вспомнить никак не мог.
Локонов, пошатываясь, встал, открыл окно и обернулся. Неожиданно для себя он увидел Анфертьева. Анфертьев спал голый на полу у дверей. По-видимому, в пьяном бреду он совершенно разделся.
Локонову захотелось пить. Стараясь не будить Анфертьева, он поставил кипяток и сел на окно.
Вода закипела, а Анфертьев все продолжал свистеть носом.
Локонов заварил чай, подошел к спящему, наклонился и хотел разбудить его, но полосы на теле распластавшегося человека привлекли его внимание.
Локонов поднялся и в немом удивлении смотрел на Анфертьева.
«Выпоротый человек», – подумал хозяин.
Локонов вспомнил рассказ о некоем реалисте Пушкинове, которого во время гражданской войны выпороли свои же гимназисты, ставшие добровольцами, за то, что он снимал иконы в школах, как порка разбила его жизнь и превратила в циника.
Локонов всматривался в собутыльника. Пред ним, несомненно, лежал один из таких людей.
«Надо, чтобы он не узнал, что мне известна его тайна».
Локонов прикрыл спящего одеждой.
Прикрыв гостя, Локонов отошел к окну.
Воробьи клевали будку. Вдали виднелась скользкая от дождя береза, под которой еще так недавно сидел циник Анфертьев, подняв свой воротник.
Не оборачиваясь, Локонов просидел до сумерек.
Поезд прошел по железнодорожному мосту.
В огромном доме напротив зажглись огни.
Какой угодно пакт и с кем угодно готов был заключить увядающий человек, чтобы вернуть, хотя бы ненадолго, себе молодость, чтобы отделаться от мучающего его ощущения пустоты мира.
В комнате постепенно светлело. Мучимый бессонницей, встал и подошел к окну. Солнце освещало двор, под окном – следы ног, наполненные водой.
Анфертьев встал страшный, опухший. Глаза у Анфертьева бегали.
Стук в виске начал превращаться во что-то членораздельное. Анфертьев прислушался.
Голос в виске стал произносить слова вполне отчетливо.
Глава XIII. Кражи
Вот Солнце – богиня, основательница Японии, мать первого императора. Ее обидел младший брат, бросил шкурку нечистого животного в ее спальную!
Пуншевич закурил и продолжал:
– Богиня в это время ткала. Она рассердилась и скрылась за скалой. Наступила вечная ночь. Боги – ее вассалы – собрались и принялись думать, как поступить, чтобы вызвать ее из-за скалы, чтобы снова появилось Солнце. Устроили пир перед скалой. Долго пели они там и танцевали. Среди них была молодая красавица – богиня. Она принялась танцевать так смешно, что даже обнажилась, появились груди. Боги рассмеялись. Богиня-Солнце не выдержала, ей захотелось узнать, что рассмешило так богов. Она слегка раздвинула скалы. Тогда самые сильные боги бросились и совсем раздвинули скалы и ее заставили выйти. И опять на свете появилось Солнце. Она была последней представительницей патриархального быта, она была последней царствовавшей богиней!
Пуншевич бросил папироску.
– Что, – спросил он у Жулонбина, – неплохо?
– Очень даже плохо, – мрачно ответил Жулонбин. – Если мы каждому предмету будем посвящать столько времени и от каждого предмета уноситься куда-то вдаль...
– Позвольте, – возразил Пуншевич, – я погружаюсь в предмет, а не отвлекаюсь от него.