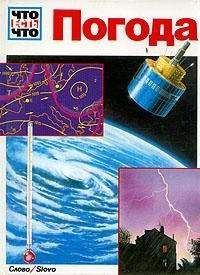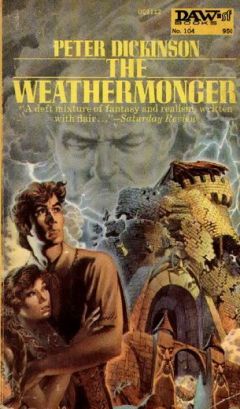Валерия Нарбикова - Шепот шума
И после сна наступило утро, и с утра была огромная масса людей, и радиоволны материально опутывали эту человеческую массу, и механический голос вещал о новой власти, и новая власть насиловала сразу всех людей в уши. Эта власть имела оружие - и она его сразу выставила на улицах: зелененькое и серенькое, и она имела солдат, и у одних были глаза, чтобы видеть, а у других, чтобы не видеть. И на все это шел дождь. И как будто бы все были дураки, такое дурацкое стадо людей, и над этими дураками были главные дураки и дуры с пистолетами в трусах. И в сердце была растерянность. Потому что у детей есть ручки, а у главных дураков есть наручники на эти ручки, есть детские наручники для трех, пяти, восьми лет, до шестнадцати и старше. И на своей дочке Вера тоже как будто увидела наручники, а все остальное было опечатано. Это были такие бумажки с печатью, которые были наклеены на дверь, и это обозначало, что все, что за дверью, этого нет. Было - а тут нет, и все. И хотя родителей не выбирают, а власть выбирают, это была такая дурацкая власть, которую никто не выбирал. И у этой власти были только домашние животные, куры и свиньи, и у нее было чем кормить этих кур и свиней. И вот еще что, как будто все вдруг, изнасилованные в уши, пошли назад. И если представить, что все-все потихоньку идет вперед, и пусть это "все-все" называется историей, то в один миг история вдруг пошла назад. То есть все-все вдруг стали в один миг отрицательными величинами, как черти, которые сами по себе есть величины отрицательные. И даже танки - материальное зло, и даже хорошо, что их было видно, потому что есть еще нематериалное зло, которое не видно.
И вся новая власть была помехой справа, которой должны были уступить дорогу детские коляски, грузовики, автомобили, а также транспортные средства общего пользования. И эта гигантская "помеха справа" была у всех на дороге и никого не пускала. И она еще кусалась. И есть правила дорожного движения, а есть дворцовые перевороты, когда жена убивает мужа, а отец сына, а сын отца, тетя - дядю и чужой дядька - малыша. Очень некрасиво. Стыдно. Плохо.
Но ведь это все инцестовые перевороты - они внутри семьи, и царю жалко своего царевича как сына, а царевичу жалко своего царя как отца, и эти инцестовые перевороты - вне людей, потому что в кругу семьи - по-домашнему. А "помеха справа" - она справа от людей. И люди ее видят, потому что у нее есть диаметр и плотность, и какая-то часть ее скрыта, зато какая-то торчит, и у нее есть мозг, и есть сила. Мало того, у нее есть ручки и ножки, которыми она бегает, но она, эта власть, не бывает хорошая или плохая. Власть и есть власть. Это народ бывает хороший или плохой. И он, этот народ, выбирает себе власть, которая властвует над ним. Но ни одна власть не стоит того, чтобы из-за нее погибал этот народ, она не стоит даже того, чтобы мокнуть из-за нее под дождем. И только те, кто любят мокнуть ЗА власть под дождем, они сами в конце концов приходят к власти - под будущим дождем, под будуще-следующим, под завтра-послезавтрашним. И это политика - кто кого перемокнет и кто выйдет сухим из воды.
И политика - это не жизнь. То есть политиками иногда рождаются, а иногда политиками умирают. И среди политиков бывают красавцы, артисты. А негры - это те же белые люди, только черные, и хуже политики бывает только уголовщина - с утра, но это не про того матроса, который убил проститутку, и не про тех школьников, которые изнасиловали девочку, и не про Раскольникова, который прикончил старушку, а про тех, которых в то утро оказалось восемь, но среди них не было того, который заболел. И как будто он заболел и не смог приехать; и пока он как будто будет болеть, все люди как будто выздоравливать: слушать "Лебединое озеро", под дулами пистолетов ходить в кино и есть пищу, которая почему-то сразу подешевеет, и улыбаться, и, улыбаясь, все сразу скажутся старушками, изнасилованными школьниками, которых съест потом десятилетняя девочка - съест и выздоровеет, выздоровеет и съест, она будет хорошей девочкой, она будет хорошо учиться, помогать старшим и любить дедушку, потому что все девочки - это его внучки, а все мальчики - внучата, и этот дедушка лежит в гробу, но в гроб этот можно войти, и там вход и выход, а внутри гроба много солдат, и у них оружие, и они убьют каждого, кто тронет дедушку, и хотя от дедушки осталась голова и пальчики и внутри головы скелет, а внутри пальчиков - кости, дедушка зовет за собой внучек и внучат, и внуки и внучата должны работать на дедушку, чтобы он мог спокойно спать в своем гробу, они должны слушаться и любить его, а кто не будет слушаться, того сначала накажут, а если он опять не будет слушаться, его будут колоть, а если опять, то сами внучки и внучата будут писать и какать на непослушного, а дедушка будет улыбаться.
И прошло уже три часа, с тех пор как тот один заболел. И никогда Вера не думала о нем столько, сколько сейчас, и сейчас она о нем думала, как о маме и о дочке, как будто у него свинка, или болит живот, или на самом деле режутся зубы, которые на самом деле у него уже выпали, а потом оказалось, что он не просто заболел, а заболел в Крыму, а все восемь - его друзья все сразу вместо него, "И ты, Брут". А вечером началось представление, и как будто оно было для дураков, и все восемь сидели по одну сторону стола, а как бы дураки по другую. И вот еще что - все эти восемь за столом как будто дрожали, и они дрожали как будто и под столом. И все они за столом были мальчики, среди них не было ни одной девочки. И хоть вокруг них все были как бы дураки, но даже дуракам было видно, что это - плохие мальчики. И один плохой мальчик сказал: "Вот дверь, а вот щель, сунешь пальчик будет зайчик", и один дурачок сунул, пальчик хрустнул и превратился в блинчик. И к этим плохим мальчикам за столом нужно было привести девочек в наручниках. И когда девочки будут плакать, мальчики будут смеяться. И там будет такая ледяная горка со ступеньками прямо на территории монастыря, который из Соловецкого опять превратился в Соловки. И девочек в наручниках опять будут спускать с этой плохой горки, а чтобы снег лучше пропитался кровью, девочек не сразу будут оттаскивать, им дадут еще немножко полежать, чтобы их кожицу прихватило морозцем, чтобы она покрылась такой кровавой ледяной корочкой и чтобы эта корочка хрустела, когда по ним будут ходить мальчики в сапогах.
А ведь с ружьем нельзя баловаться, если оно появится в первом акте, то в третьем оно выстрелит, это классика. Танк - это модерн. Неприятная машина, он зеленый. У него есть гусеницы. Он стреляет. С крышкой, как кастрюля. Он ревет. Танкисты - это такие люди, которые находятся внутри танка. Они тоже зеленые, они внутри для того, чтобы убить тех, кто снаружи. В танке тесно. У танка есть гусеницы. Гусеницы для того, чтобы давить. Гусеницы устроены как гусеницы насекомые. Они ползают. Гусеницы-насекомые тоже зеленые, чтобы маскироваться от врагов. Враги гусениц - птицы. Они летают. Над танками летают самолеты. Самолет может подбить танк. Гусеница не может подбить птицу, потому что внутри птицы, не сидит человек, - "куплю комнату или квартиру", "куплю дачу", "меняю зимние мужские ботинки на женские трусы".
Улитка висит на собственной слюне. Она спала, проснулась и поползла. Она вся состоит из себя самой - из улитки - без крови и без костей. Аэродром, стадион, вокзал, площадь, все кишат и все состоят не только из людей, но из крови, костей и улиток.
Н.-В. звонил из города, который был железным от дождя и мокрым от танков, "Ничего не слышно", - сказала Вера. "Приезжай", - сказала она. Полночь, и дети спят, а взрослые боятся заснуть и не проснуться или проснуться где-нибудь там, где уже нет ничего такого, что напоминает что-нибудь, что можно узнать.
Н.-В. состоял из такого подвижного шара мокрых птичек, которые отряхивались прямо налету, это был целый шар брызг, это была очень шумная стая. "Тише, - сказала Вера, - она спит". И почему-то мокрый черный цвет был еще чернее сухого черного цвета. "Ну что там?" - "Дождь".
Колесо, государственная машина на колесах, велосипед - это государственная машина - для людей, но на самом деле - это люди для гос. машины. Она - для них, а оказалось, что это они для нее. Любые для любой. И она для любых. Эта машина железная. И люди в хвосте и в голове этой машины тоже железные, хотя они и люди. И эта машина много: ест, спит, кусается, блюет. Нет, только поэзия и частная жизнь!
"А как же моя выставка?"
Сверху на Н.-В. было все мокрое, а под этим мокрым было тоже все мокрое.
"Ты разве не на машине?" - спросила Вера.
А потом он вышел из ванной, и он уже был мокро-горячим, а не мокро-холодным. Как же грустно! Грусть, куда же несешься ты, дай ответ! Не дает ответа, и все до одного виноваты перед всеми, и все повязаны виной, и есть ли хоть один, кто бы не был виноват хоть перед кем-нибудь одним? "А кто там был?", и такие там были, которые потом били себя в грудь, что они там были, мама мыла Милу мылом.
Любовь, то есть страсть, то есть постель, да еще такие вопросы, "Вера", сказал Н.-В., он любил так - сказать "Вера" и вдруг замолчать. "Что ты хотел сказать?" И вместо вопроса просто вопросительно смотреть, и она не могла смотреть ему в глаза, когда он так смотрел. И не надо было смотреть, потому что они уже целовались. Потому что он целовал ее так, как ей больше всего хотелось. Как будто он не справлялся с ней, и, чтобы справиться с ее губами, он брал их в руки, и только потом из собственных рук он брал их своими губами. И даже безвкусный язык был вкусным. И как будто этот поцелуй был пределом близости. И как будто ничего, кроме этого поцелуя, не могло так растравить и насытить. И вдруг Н.-В. сказал: " скажи мне, только не ври, что это значит?" и он вдруг из собственного рукава вытащил то самое желтое платье, которое на самом деле было у него в сумке, которая была у него под рукой. Это было так неожиданно, тем более что Н.-В. был в халате и как будто платье это было у него прямо под халатом, а не в сумке. И она такого не ожидала. Но он не ожидал, что она вдруг выхватит у него это платье. И как только она выхватила его, она откинула его от себя с такой ненавистью, что оно как сквозь землю провалилось. Хотя на самом деле оно провалилось между столиком и кроватью в такую щель, куда оно на самом деле не могло провалиться, но оно тут же провалилось в - темноту, и когда Н.-В. стал дергать за веревочку, чтобы включить свет, и когда Вера сказала: "Не работает", и когда он включил настольную лампу, и бледно-желтый свет едва осветил угол комнаты, и Верино лицо бьыо в темноте, и вдруг он подумал, что все, что она сейчас скажет, будет неправдой. И что она сейчас будет говорить, а он слушать, а потом он будет говорить, а она слушать, а потом они будут любить друг друга. Они никогда так еще не говорили друг с другом, как сейчас: