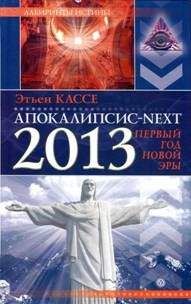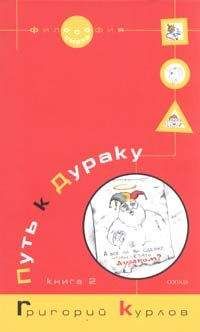Григорий Данилевский - Потемкин на Дунае
– - Сами захотели, ну, попробуют! -- сказал Суворов, огненным и радостным взором пробежав перевод хвастливого ответа паши.
Узнав, что сераскира в его решимости поддерживали некоторые из пашей и, между прочим, брат крымского хана Каплан-Гирей, бывший в Измаиле с шестью молодыми сыновьями, Суворов уведомил Аудузлу, "что если тот в двадцать четыре часа не выставит белого флага, то крепость будет взята приступом и гарнизон ее соделается жертвой ожесточенных воинов". Сераскир в ответ на новое уведомление графа удвоил канонаду с крепостных окопов.
А к вечеру примчался от светлейшего новый гонец. Страшась неудачей омрачить себя и славу вверенных ему войск, Потемкин окончательно отменил посланные перед тем распоряжения и предписывал Суворову "не отваживаться на приступе, если он не совершенно уверен в успехе". Суворов ответил князю: "Мое намерение непременно. Два раза было российское войско у ворот Измаила,-- стыдно будет, если в третий оно отступит, не войдя в него".
Ночью девятого декабря был созван окончательный военный совет.
Все первенствующие в армии генералы под разными предлогами на это совещание почему-то не удостоили явиться. Дело решилось тринадцатью второстепенными командирами. Бригадир Матвей Платов, будучи как младший из всех спрошен вначале, первый подписал резолюцию: штурмовать. За ним Орлов, Самойлов, Кутузов; далее и все, колебавшиеся и приходившие в отчяние, положили решение: "Приступить к штурму неотлагательно. И посему уже нет надобности относиться к его светлости. Обращение осады в блокаду исполнять не должно. Отступление предосудительно".
Узнав решение, Суворов вбежал в заседание совета, всех перецеловал и объявил: "Один день Богу молиться, другой учиться; в третий -- Боже Господи! В знатные попадем -- славная смерть или победа".
Утром десятого декабря была открыта редкая, слабая, с перерывами, пальба с флота и с батарей на суше и на острову, дабы обмануть турок мнимым недостатком у нас пороха и прочих снарядов. К вечеру канонада стихла.
Ночь с десятого на одиннадцатое декабря была последнею перед грозным приступом, который прогремел во всем свете и воспет бессмертным Байроном. С вечера сильный, без ветра, мороз скрепил окольные болота и дорожную грязь. Наступили сумерки. Войско готовилось молча и набожно к битве, где столько тысяч храбрых ожидала лютая, безжалостная смерть.
Меня позвали в землянку Суворова, вырытую в передовой части наших позиций. Это была просторная, без окон, укрытая сучьями и кукурузными снопами, перегороженная надвое яма, с печуркой и дымником в стене и с камышовым щитом вместо двери. Освещалась она свечками, вставленными в пустые бутылки.
Сутуловатый, черномазый полтавец Бондарчук, тогдашний графский денщик, высунувшись с лоханкой из-за перегородки, где стояла походная, складная кровать главнокомандующего, сказал мне: "Звелели, добродию, обождать". По этот бок перегородки, беспечно и мирно, точно где-нибудь на родине, в Гатчине или Чухломе, потрескивали в печке откуда-то добытые сухие поленца. Пахло дымком и столь любимым графским прысканьем -- смесью мяты, шалфея и калуфера. Воображение переносило в русскую баню, а в опочивальне графа, кстати, слышались некие приятные вздохи, оханье и как бы плесканье.
– - Еще, голубчик, хохлик! Ну-ка, Бондарчук! Ой, Господи! Да важно, как еще! -- восклицал Александр Васильевич, очевидно подставляя под лоханку денщика то лицо, то затылок, то плечи.
– - Удивляешься? -- спросил он вдруг, выйдя закутанный в простыню.-- Часочек рекреации! С Покрова, брат, головы не мыл; наутро же знаешь какое дело…
Граф вытерся, опростал голову, сел на какой-то обрубок и протянул к печке худые, волосатые, тоже вымытые ноги, на которые денщик стал натягивать шерстяные стоптанные онучки вместо чулок и сапоги. Все тело графа, впалые плечи и узкая плоская грудь поражали слабостью и худобой. Он, под влиянием приятной печной теплоты, смолк и стал слегка вздремывать.
"И этому тщедушному старику предстоит завтра такое страшное, ответственное дело",-- подумал я.
– - Пуговичку… ниже, ох, что же это? -- проговорил в полусне Суворов и вдруг весело раскрыл глаза.-- Молода была -- янычар была, стара была -- баба стала… Бехтеев, ты тут! Случай, ты не лживка и не ленивка? Скажи, да по правде, любишь Питер?.. То-то, где его любить! Близко к немцам… Оттого и многие там пакости. Всюду, ох, проникает питерский воздух… Прислони, братец, дверь в сенях плотнее,-- так-то… Оно спокойнее. Не то, как бы опять из Ясс не запахло Питером! Критика, политика, вернунфты! Сохрани и помилуй от них Бог, помилуй…
Белье и рейтузы были надеты. Денщик, вытянувшись, давно стоял с камзолом и сюпервестом в руках. Но граф медлил подниматься от печки. Я тоже молча ожидал приказаний. Наверху, за дверным щитом, слышался сдержанный шепот, толпились адъютанты и прочие штабные.
– - Воскрес убитый Топаль-паша, хромой паша! Воскрес,-- проговорил, глядя в печку, Суворов,-- как меня, сударь, прозвали турки, за хромоту и совсем было схоронили под Бендерами… Да ожил на страх изуверам и завтра явится, как Божья кара. Сам Петр Александрович, не то что сам Задунайский, меня лично ценил и одобрял. У Вобана, сударь, у Тюрення и Монтекули учились мы вон с Бондарчуком военной премудрости и всякому артикулу. Мы не антишамбристы, не блюдолизы, хоть и вандалы, дикари. Солдаты любят нас, друзья славят, враги бранят… Ну-ка, Прохор Иваныч, другую прежде фуфаечку поверх этой, оно теплей. Да пуговичку… шлифная пряжка намедни лопнула, достал ли иголку, ниточки зашить? Достал? Ну, молодец. А ты, Бехтеев,-- вот зачем я тебя позвал: отыщи в чемодане баульчик такой, походную аптечку. Матушка царица Екатерина Алексеевна снарядила ее сама, своими ручками, и прислала мне после Очакова,-- вовеки, с ней не расстаюсь. Так ты приладь на плечо и завтра вози за мной. Сердцезритель-Господь чертит каждому путь… Может, кому и пособим.
Хилый, сморщенный старик, кряхтя, поднялся со скамьи, надел камзол, обвязал шею чистым батистовым платком, изрядненько прибрал свой гарбейтель-косичку, зачесал сзади на лоб часть жидких, седых волос и подвернул их завитушкой-хохолком, оделся в синий с золотом кафтан со звездами, пристегнул шпагу, прошелся по землянке -- и куда делась сонливость и хилость! "Туалет солдата таков -- встал и готов! -- сказал Суворов.-- Честь и хвала князю Потемкину, поубавил кукольных занятий у войска… но все еще немало осталось!" Граф покрылся шляпой с белым плюмажем, расправился, обернулся,-- я его не узнал. Три ночи не спавший в переговорах с турками, шестидесятилетний старик, измученный душевной, никому не зримой борьбой и страдавший ревматиками раненой ноги, глядел бодрым, выносливым, свежим и молодым. "Фазаны тут?" -- спросил Суворов Прошку. "Тут",-- ответил денщик. Так граф называл нарядных штабных. "Ну, теперь выкинет штуку,-- подумал я, вспоминая выходки графа,-- выскочит, крикнет петухом, чтобы разбудить дремлющий стан…"
– - Господа, по местам! -- сказал Суворов серьезно, торопливо взбираясь из землянки и направляясь к большому соседнему костру. Граф позвал назначенных заранее начальников, кое-кого из офицерства и сел у огня -- дожидаться условного знака. Штурм, как все знали, был предположен до рассвета, по выпуске трех, с промежутками, сигнальных ракет.
Войско для взятия крепости было разделено на три отряда,-- в каждом по три колонны. Правым крылом, или первым отрядом, командовал двоюродный брат светлейшего, муж Прасковьи Андреевны Потемкиной, генерал-поручик Потемкин; второе, левое, крыло было поручено племяннику князя Таврического, генерал-поручику Самойлову; третьим, от реки, командовал контр-адмирал Рибас. Начальниками подчиненных им колонн были генерал-майоры Львов, Мекноб, Ласси, Безбородко, Кутузов, Арсентьев; бригадиры Платов, Орлов, Марков и атаман запорожцев Чепига.
Костры шестой колонны Кутузова, бывшей в отряде Самойлова, светились красивыми правильными рядами слева, по холмам и спускам в лощину, подходившую здесь к самой реке.
Суворов, полулежа на примерзлой траве и кутаясь в бурку, отдавал последние приказания. Резкий, пронизывающий холодом и сыростью ветер, дувший с вечера, затих. В отблеске графского костра рисовалось несколько старых и молодых фигур, почтительно стоявших возле Александра Васильевича. В стороне, у смежных огней, слышалась французская бойкая, самоуверенная речь. Между говорившими я узнал прибывших в эти дни некоторых из агентов иностранных дворов и наспевших из ясской главной квартиры партикулярных вояжеров и волонтеров. На ковре, боком к огню, сидел белокурый и сильно близорукий, с приятной важной осанкой, сын известного принца Де-Линя. С ним оживленно спорил, сидя на корточках, в бархатном кофейном кафтане, в кружевных манжетах и огромном жабо, вертлявый и толстенький, с острым носом, эмигрант герцог Фронсак -- впоследствии известный на юге России герцог Ришелье. Поодаль от них, в кругу обступивших его артиллерийских офицеров, прислонясь к пушечному лафету, полулежал на кучке соломы другой эмигрант, суровый и бледный, болевший лихорадкой и зубами и с подвязанной щекой, граф Ланжерон.