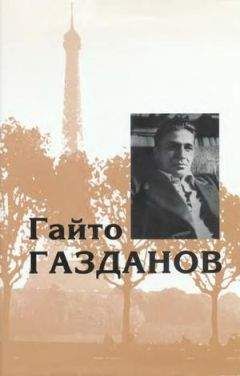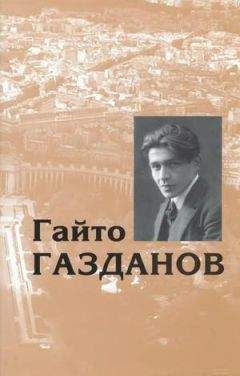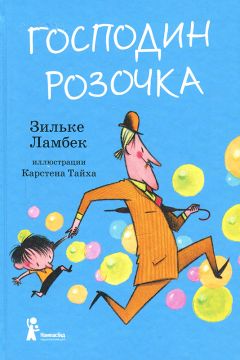Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
После таких состояний я надолго забывал о них и возвращался к ежедневным моим заботам и к сборам в отъезд, если наступало лето, – потому что каждый год во время каникул я ездил на Кавказ, где жили многочисленные родные моего отца. Там из дома моего деда, стоявшего на окраине города, я уходил в горы. Высоко в воздухе летели орлы, я шагал по высокой траве с моим ружьем монте-кристо, из которого стрелял воробьев и кошек; в стороне с шумом тек Терек, и черная мельница одиноко возвышалась над его грязными волнами. Вдалеке, на горах, блестел снег – и я вспоминал опять о сугробе, который видел возле Минска несколько лет тому назад. Дойдя до леса, я ложился возле первого муравейника, который мне попадался, ловил гусеницу и осторожно клал ее у одного из входов в высокую, ноздреватую пирамиду, из которой выбегали муравьи. Гусеница уползала, подтягивая к себе извивающееся мохнатое тело. Ее настигал муравей; он хватался за ее хвост и пытался задержать ее, но она легко тащила его за собой. На помощь первому муравью прибегали другие: они облепляли гусеницу со всех сторон, живой клубок медленно подвигался назад и, наконец, скрывался в одном из отверстий. Та же судьба постигала крупных мух с синими крыльями, дождевых червей и даже жуков, хотя с последними муравьям было труднее всего справиться: жуки гладкие и твердые, их нелегко ухватить. Но самую жестокую борьбу я наблюдал в тот раз, когда пустил в муравейник большого черного тарантула. Я не видел более свирепого существа ни среди зверей, ни среди насекомых, известных своей жестокостью – если можно так назвать их непостижимый инстинкт. Самые злые зверьки, которых мне доводилось встречать – хорьки, хомяки, ласки, – обычно обладают известными аналитическими способностями и в случае опасности отступают, бросаются же на врага, только если нет возможности бегства. Я видел всего один раз, как ласка вцепилась в руку конюха, ранившего ее камнем: обычно же ласки убегали с чудесной, змеиной быстротой. Тарантул никогда не отступает. Я осторожно выпустил его из стеклянного пузырька: он упал прямо на муравьиную кучу. Муравьи тотчас напали на него. Он передвигался по земле прыжками и отчаянно сражался, и вскоре множество перекушенных пополам муравьев билось на земле, умирая. Он с яростью бросался на все, что шевелилось, не воспользовался тем, что мог уйти, и оставался на месте, как бы ожидая новых противников. Битва длилась более часа, но, наконец, и тарантул был втянут в муравейник. Я смотрел на этот бой с томительным волнением, и смутные, бесконечно давно забытые воспоминания будто брезжили во мгле моих навсегда похороненных знаний. И сейчас же после этого я отправился дальше: ловить ящериц, лить воду в норки сусликов. После долгого ожидания из воды показывался мокрый зверек; он быстро выскакивал оттуда, мчался в строну и исчезал в какой-нибудь другой дыре. Но и суслики, и ящерицы, и муравьи, и даже тарантулы – все это было ничто по сравнению с необыкновенным зрелищем, которое мне пришлось увидеть как-то ранним утром июльского дня. Я видел переселяющихся крыс. Они шли неправильным четырехугольником, волоча по земле хвосты и перебирая лапками. Я сидел на дереве и глядел, как быстро чернела земля, как крысы дошли до маленького оврага, пропали в нем и потом снова появились, пища и стремясь все дальше; как потом они дошли до Терека, как остановилось на минуту их стадо и как затем, переплыв реку, они скрылись в чьем-то саду. Я слез с дерева и пошел лежать на опушку леса.
Тишина, солнце, деревья… Изредка слышно, как сыплется земля в овраге и трещат маленькие сухие ветки: это бежит кабан. Я засыпал на траве и просыпался с влажной спиной и желтым огнем перед глазами. Затем, оглядываясь на красное, заходящее солнце, я шел домой, в прохладные комнаты дедовской квартиры, и приходил как раз вовремя для того, чтобы увидеть пастуха в белой войлочной шляпе, гнавшего стадо с пастбища; и бодливые коровы деда, славящиеся злым нравом и хорошим удоем, мыча, входили в ворота скотного двора. Я знал, что сейчас к коровам бросятся телята, что работница будет отводить упрямые телячьи головы от вымени, и об белые донья ведер зазвенят упругие струи молока, и дед будет смотреть на это с галереи, выходящей во двор, и постукивать палкой по полу; потом он задумается, точно вспоминая что-то. А вспомнить ему было что. Когда-то давным-давно он занимался тем, что угонял табуны лошадей у враждебных племен и продавал их. В те времена это считалось молодечеством; и подвиги таких людей были предметом самых единодушных похвал; все это происходило в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия. Я помнил деда маленьким стариком, в черкеске, с золотым кинжалом. В девятьсот двенадцатом году ему исполнилось сто лет; но он был крепок и бодр, а старость сделала его добрым. Он умер на второй год войны, сев верхом на необъезженную английскую трехлетку своего сына, старшего брата моего отца; но несравненное искусство верховой езды, которым он славился много десятков лет, изменило ему. Он упал с лошади, ударился об острый край котла, валявшегося на земле, и через несколько часов умер. Он знал и помнил очень многое, но не обо всем рассказывал; и только со слов других стариков, младших его товарищей, я мог составить себе представление о том, что дед был умен и хитер, как змея, – так говорили простодушные выходцы из середины девятнадцатого столетия. Хитрость деда заключалась в том, что после прихода русских на Кавказ он оставил навсегда в покое табуны и зажил мирной жизнью, которой никак нельзя было ожидать от этого неудержимого человека. Все его товарищи погибли жертвами мести; на его дом дважды производили нападение, но в первый раз он узнал об этом заблаговременно и уехал со всей семьей, на второй раз – отстреливался несколько часов из винтовки, убил шесть человек и продержался до того времени, пока не подоспела помощь. Нападавшие все же успели причинить деду некоторый вред: они срубили его лучшую яблоню. Садом своим дед гордился и не пускал туда никого, кроме меня. В саду этом росли яблоки «белый налив», золотые громадные сливы и овальные груши необыкновенной величины, а посередине, в глубине оврага, который на кавказско-русском языке называется балкой, тек ручей, в котором водились форели. Я объедался незрелыми фруктами и ходил с бледным лицом и страданием в глазах. Тетка укоризненно говорила деду:
– Вот, пустил мальчика в сад!
Она фактически управляла всеми делами и по мере того, как дед все больше старел, забирала себе власть в руки. Но возражать деду она обычно не смела – и когда она сказала: вот, пустил мальчика в сад, – дед разгневался и закричал высоким старческим голосом:
– Молчать!
Она до полусмерти испугалась, пошла к себе в комнату и лежала целый час на диване, уткнувшись лицом в подушки. – Почему ты так испугалась? – спросил я. – Ты ничего не знаешь, – ответила тетка. – Дед меня зарубит. Дед страшный человек. – Ты просто трусиха, – сказал я. – Дед очень симпатичный, он тебя пальцем не тронет, хотя ты злая и скупая. Почему ты не хочешь, чтобы я ходил в сад? – продолжал я, забыв о дедушке и внезапно раздражившись. – Ты хочешь, чтобы все яблоки тебе остались? Ты их все равно не съешь. – Я напишу твоей маме, что ты говоришь мне дерзости. – Но угроза тетки меня нисколько не пугала, тем более что даже с теткой я редко ссорился: я был слишком занят стрельбой по воробьям, охотой за кошками и путешествиями в лес. И, прожив у деда месяц или полтора, я уезжал в Кисловодск, который очень любил, – единственный провинциальный город со столичными привычками и столичной внешностью. Я любил его дачи, возвышающиеся над улицами, его игрушечный парк, зеленую виноградную галерею, ведущую из вокзала в город, шум шагов по гравию курзала и беспечных людей, которые съезжались туда со всех концов России. Но начиная с первых лет войны Кисловодск был уже наводнен разорившимися дамами, прогоревшими артистами и молодыми людьми из Москвы и Петербурга; эти молодые люди ездили верхом на наемных лошадях и отчаянно трясли локтями, точно кто-то подталкивал их под руку. В Кисловодске я пил нарзан, разбавленный сиропом, ходил по парку и взбирался в гору к маленькому белому зданию с колоннами, которое стояло высоко над городом; оно называлось «Храм воздуха». Я не знал, кому принадлежало это претенциозное название, достойное уездного поэта с длинными волосами и тремя классами высшего начального училища в прошлом. Но я любил подниматься туда: там ветер, как воздушная река, журчал и струился между колоннами. Белые стены были покрыты надписями, в которых изощрялись российская безнадежная любовь и тщеславное стремление увековечить свое имя. Я любил красные камни на горе, любил даже «Замок коварства и любви», где был ресторан, а в ресторане прекрасные форели. Я любил красный песок кисловодских аллей и белых красавиц курзала, северных женщин с багровыми белками кроличьих глаз. Я проходил в парке мимо того пустячного утеса на Ольховке, где постоянно дежурил фотограф, который снимал дам и барышень, стоящих над падающей водяной стеной; эти снимки я видел везде, в самых глухих углах России.