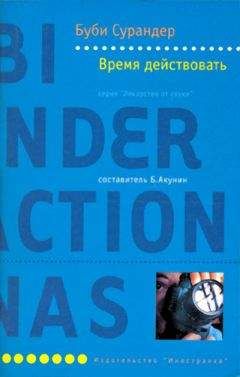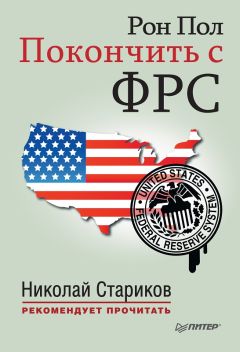Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
…Нет, не в небо. Всего только на пар, где будут пастись лошади. Скачка кончается. Глеб спрыгивает, замирая (в волнении, счастье). От Червончика пахнет приятным лошадиным потом, бока потемнели и сильно ходят – запыхался. Лошадей стреноживают («путают»). Теперь в июньской полутьме, под звездами, в блаженном спокойствии, но и усталости, надлежит брести мёжами домой, в Будаки – к ужину с парным молоком, редисками, благоуханным ситным хлебом.
Возвращение медленно. Волоча за собою Червончикову обратку, бредет маленький человек с двумя-тремя мальчишками по родным полям в душно-прелестной, синеющей летней ночи.
А в усадьбе еще не разошлись поденщицы, косари. Арешка раздал уже им четвертаки, полтинники, но они не уходят. Под березами, окружающими усадьбу, усаживаются на бревнах, девки водят хороводы, поют. Среди них одна красавица Марьянка, – и парень Василий, из Овчурина, тоже молодец, силач и красавец. Глебу, впрочем, и вообще казалось, что они все здоровые и сильные, веселые. Он любил смотреть их хороводы – Марьянка с Василием выступали солистами, – любил слушать их пение.
Од-д-на осталась мне уте-ха
Мил пла-кать, пла-кать не ве-ле-л!
С этими песнями, старыми и заунывными, но исполнявшимися голосами молодыми, полными силы, радости жизненной, входила в него Россия калужская – диковатая, но могучая, чернобровая, сероглазая, в домодельных поневах и красных ластовицах на рубахах, вольная и широкая, как сама здешняя Ока, вся в пении, в быту почти еще патриархальном – в обстановке приокских пейзажей, будаковских берез, Никольского благовеста, духовитых покосов по разным «ложкам» и «верхам», под всегда равными себе звездами. Мать Земля, Мать Россия дышала благодатию своего изобилия и мира.
И когда расходились поденщики, а из дому звали ужинать, то с Оки, под теми же звездами, в наступающей ночи – далекие и протяжные – слышались песни плотогонов. Как тысячу лет назад древляне или кривичи, так сейчас мужички орловские, калужские гнали плоты по Оке в Волгу – к дальнему Каспию. У огонька на плоту, где нехитрое что-то варится в таганке, не такой же ли сидит человек, в лаптях и со спутанной бороденкой, привычный к дождям и хлябям, с речью нехитрою, темной, как и тот, что привязывал некогда за ноги к верхушкам нагнутых дерев князя Игоря в дебрях Полесья?
Впрочем и этот в свое время, уже недалекое, тоже прозреет. Но пока еще мать с Лизой и Глебом безобидно ужинают при свечах под стеклянными колпачками на балконе. Бабочки набиваются к огню. Вечер отсчитывает часы.
Сама по себе будаковская жизнь не была уж такой идиллией – у матери свои заботы, у Арешки свои, у мужиков, баб, парней, приходивших из Никольского на поденную, свои огорчения и напасти. Но Глеб ничего этого не знал. Рос он балованным барчонком, – рос привольно… – вдали от тягот, понуждений. Но и он, маленький, казалось бы, от многого еще далекий, сам не был уже вполне идиллией.
Мало трофеев дала ему охота в Будаках, но все же много он слонялся по саду, по пустынным оврагам, рощам будаковским со своим ружьецом. Подкарауливал, крался, стрелял, иногда убивал.
Конец августа. Ясный, чудесный осенний день. Глеб, Лиза и мать на балконе. Мать читает письмо от отца из Устов. Только что Арешка привез с почты. В просвете между липами, уже пожелтевшими, с листвою сквозною – синяя лента Оки. И вдруг на дубу, в конце дорожки, у частокола над обрывом, мелькает белочка. Буренькая, с длинным хвостом. Легко, как бы играючи, пронеслась по стволу наверх в ветки. Глеб вскакивает. Бежит в комнаты, возвращается с ружьем. Мать неотрывно читает. Что-то ее заботит.
– Ты кого хочешь стрелять? – спрашивает Лиза. Глеб уже побледнел, надевает пистон, взводит курок.
– Вон она… видишь? На дубу… хвостом помахивает.
– Белочку?
Глеб молча спускается с балкона. Коленки его слегка дрожат. Подпустить или в последнюю минуту стреканет?
– Глеб, не стреляй ее, за что…
Глеб с удивлением оборачивается на сестру. Как будто охотник за что-нибудь стреляет! Дичь есть дичь. И все тут. Но Лиза впадает в волнение.
– Ну, пожалуйста, прошу тебя. Мне ее жаль. Мать отрывается от письма.
– Не мешай сыночке. У тебя всегда какие-то фантазии.
– За что он ее убивает? – почти кричит Лиза. – Что она ему сделала?
Но Глеб не слышит. Он не себе уже принадлежит. Он глух и слеп, ему теперь лишь бы подкрасться, только бы белочка не улизнула.
А она невнимательна. Сидит на верхушке, занимается желудями, не замечает подкрадывающегося мальчика. И в грохоте, дыме выстрела валится к подножию дуба.
– Паршивый! Дрянной! Видеть тебя не могу! – кричит Лиза с балкона.
Мать строго на нее взглядывает.
– Перестань, пожалуйста.
Глеб и вовсе не обращает внимания. Ну, дура девчонка. Что она понимает в охоте?
И победоносно тащит на балкон окровавленную белочку. Лиза, почти в слезах, убегает. Мать кончила читать. Лицо ее озабочено.
– Отдай Арефию. Он шкурку снимет. В хозяйстве пригодится.
Лиза первое время дулась на Глеба. Но за ним, как неприступная твердыня, возвышалась мать, да и сам он настолько был убежден в своей правоте, что смутить его было невозможно.
– Для того сыночке и купили ружье, чтобы он охотился. Оставь свои глупости.
– Любимчик! – фыркала Лиза.
Глебу не нравилось это слово, но в пререкания он не вступал: просто уходил с ружьем. Лиза же, хоть и старше его, чувствовала себя как бы и ущемленной – равнодушием брата и меньшею, чем бы хотелось, любовью матери. Иногда она даже плакала, как обойденная. И на стареньком пианино, в синей выцветшей будаковской гостиной развеивала в Шопенах свою печаль.
Но вот, с половины сентября, пошли дожди. Сад быстро облетал, Оку видно было теперь из окон больше. В доме сыро, стали подтапливать. Дальняя комната с венецианским окном, совершенно без мебели, выходившая на лужайку, вся гудевшая при громко сказанном слове, обратилась теперь в склад яблок: антоновка, скрижапель, апорт, коричное (его называли «коричневое»)… какой новый, чудесный запах по всему дому!
Арешка ездил в Калугу продавать рожь купцу Ирошникову, они потом долго считали на счетах с матерью – его гоголевский нос потел и краснел. Объегоривал он, надо думать, устовскую барыню как хотел!
В Калуге записались в библиотеку, он привозил детям книги: Глеб сидел теперь дома. Из окон виден был мокрый, унылый сад, вороны летали, забредал какой-нибудь теленок, но в угловой комнате с двумя изразцовыми печами, где теперь жили Глеб с Лизой, было тепло. Дети валялись на постелях, уперев ноги в теплые изразцы с зеленоватыми разводами, читали романы. Это их опять сблизило, да и время шло, и белочка, и неприятности, все забывалось. За окнами холод, слякоть, а они тут, все-таки брат и сестра, вместе в Устах росшие, вместе хворавшие, вместе игравшие с Вальтоном…
Их любимым занятием стало читать наперегонки. Арешка ухитрился привезти два экземпляра «Квартеронки» (затрепанные переплеты, синее библиотечное клеймо на первой странице, сыроватые листы, пахнущие затхлостью – разве можно равнодушно вспомнить о калужском Майн Риде!).
Глебу приходилось туго – явно Лиза быстрее читала.
– Я так и думала, – говорила она, лежа на спине, побалтывая ногой без ботинки и захлопнув книгу, – этот молодой человек в действительности вовсе…
– Ты заглядываешь вперед. Где неинтересно, там пропускаешь. Это не называется быстро читать.
Глеб, однако, не сердился: его самого слишком увлекал роман.
– Не вперед, а я просто скорей тебя читаю…
– Мне все равно, кто скорее читает, – говорил Глеб с деланным равнодушием. – Не мешай. Тут страшно интересно… невольницу продадут?
– А уж я знаю, что будет, да не скажу! – Лиза прищелкнула языком и сделала лисью мордочку.
Глеб отвернулся. Он считал нечестным заглядывать вперед. Читал медленно, основательно, зато все «переживал». Чтение становилось второй половиною его жизни.
Вошла мать.
– Мама, я закончила «Квартеронку». Когда же Арешка поедет в библиотеку? У меня нет больше книг.
Мать имела несколько взволнованный вид.
– Вы все читаете… А сейчас мужик из Никольского привез письмо, был в Калуге: на днях папа приезжает…
Глеб и Лиза заболтали ногами, отбросили книги и издали приветственные клики.
– Он возьмет нас отсюда в Усты, а с Нового года его переводят в Людиново директором завода.
Людиново! Глеб слышал это слово. Хорошо или нет, что они переезжают из Устов? Людиново – нечто огромное, таково было сложившееся его впечатление…
Он отложил книгу, спросил серьезно, как спросил бы, по его мнению, отец:
– А там хорошая охота?
На этот вопрос мать ответить не могла. Но сказала, что там отличное озеро, у них будет огромный дом и вообще это для отца повышение.