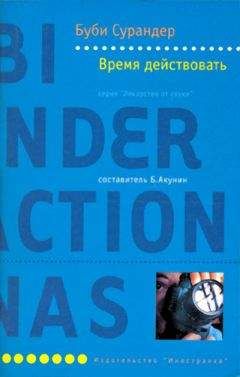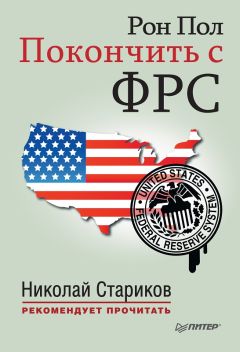Борис Зайцев - Том 4. Путешествие Глеба
«На всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа» – и если на всяком, то как же не тою весной на земле будаковской? Глеб не знал Псалмов, о царе Давиде не имел представления. Но восторг бытия был уже ему знаком, еще по Устам. Глеб любил Усты. Теперь же, здесь, как будто находился еще в новом мире, много прекрасней, свежей, чище. Все казалось необыкновенным: белоствольные рощи березовые, тесно окружавшие усадьбу (деревни вблизи не было и это вносило особую ноту), небольшой дом, насквозь проникнутый запахом странным – его источали и стены, и старинная мебель, нечто очаровательно-затхло-сладковатое – и вдруг струя благоухания из отворенного окна. Балкон с деревянными колоннами, сад весь в цвету – яблони, груши, вишни. От балкона прямая дорожка к дубу – огромный дуб, в линии частокола, огораживающего сад, а от него крутой спуск к Оке.
Есть места на земле, как бы уготованные душе. Глеб слыхал много о Будаках, как-то и рисовал их себе. А попав сюда, вдруг оказался в мире волшебном, но и настоящем, и страннее всего, что настоящее было предчуяно, но оказалось выше сновиденья, в дальнейшем же навсегда сновидением и осталось.
Что может быть важного или значительного в трехмесячном пребывании мальчика с матерью и сестрой в глухом именьице под Калугою, в восьмидесятых годах прошлого века? Ничего замечательного!
Замечательно разве лишь то, как расцвел, после яблонь, жасмин под окнами, белыми с золотом цветами. Как по всему дому этим жасмином благоухало – ветви с цветами прямо лезли из окон в комнаты. Как блестел самовар на балконе, и налево, в прорубленный среди лип просвет, сияла Ока. Замечательно было – среди цветущих вишен, слив, яблонь, при тихом гудении пчел пройти по дорожке к дубу. Тропинкою вдоль частокола повернуть вправо, под теплым солнцем сквозь облачка высокие, в теплом, райски-благословенном благоухании сада дойти до калитки в частоколе – отворить ее, выйти. Там под кленом скамеечка. И вот пред тобой Божий мир! Вот он, тут! Глебу казалось тогда, что нагорный их берег высок, горизонт за Окою огромен, что эти поля, рощи, имение Овчурино наискосок за рекой, белеющий в парке дом – все это прекрасно и необычайно. Необычаен и дикий овраг справа, заросший лесом, а над ним село Никольское, наполняющее благовестом всю округу. И всего, может быть, замечательнее Ока, к которой можно сбежать по крутому спуску – она делает здесь плавную, как бы зеркальную излучину, удаляясь направо к Серпухову, налево к Калуге. Может быть, именно здесь, под дубками, когда глядел Глеб на Оку, тут-то и проявился в нем впервые дурман мечтательности. Но какая сладкая, еще невинная была эта мечтательность! Может быть, тут продолжалось и то чувство рая, которое являлось ему в Устах и которому недолго уже предстояло посещать душу.
По Оке ходили скромные ципулинские пароходы. Сколь величественными они казались Глебу! – «Владимир Святой» самый большой из них, «Екатерина» и «Дмитрий Донской» поменьше, и все по-разному шумели колесами. Любимым занятием Глеба и Лизы было с балкона, по звукам узнавать пароходы – лишь показывался дымок у овчуринского перевоза, дети навостряли уши: начинало доноситься дальнее лопотание колес, взбивавших, пенивших мирную окскую воду – с каждой минутой явственней.
– «Владимир»!
– «Екатерина»!
Звук «Владимира» был как-то гуще, основательней.
– А я тебе говорю, «Владимир»! Лиза строила ему рожицу.
– «Е-ка-те-ри-на»!
Глеб не мог усидеть. Мимо дуба летел к заповедной калитке, на скамеечке ждал. Пароход неторопливо выгребал против течения, вот виден красноватый корпус, белая рубка, труба… ну, конечно, «Владимир»! Странный человек эта Лиза. Мать находила ее упрямой. И действительно: «Екатерина, Екатерина…» Он, Глеб, давно сказал, что «Владимир». Совершенно напрасно спорит.
Он испытывал волнение, нервное возбуждение, когда пароход приближался. Оно возрастало, когда изящный «Владимир» проходил внизу, как бы у его ног. Все это необычайно, страшно интересно, там особенные люди, они едут из одних неизвестных краев в другие, и путешествие их проходит среди тех же сказочных мест, как и Овчурино, Никольское, Будаки… (В действительности же ездили маленькие помещики, торговцы из Алексина, какая-нибудь чиновница из Калуги и в «третьем классе» – мужики. Когда «Владимир» под Каширой иль Тарусой садился на мель, этих мужиков сгоняли в мелкую воду, облегченный пароход снимался).
Иногда Глеб даже не выдерживал и сбегал к воде. Взлетали кулички, трясогузки с левого, песчаного берега, пароход тяжело резал носом воду, пассажиры у бортов глядели по сторонам, на мостике капитан в белой фуражке. Глебу казалось, что «Владимир» мчится необыкновенно быстро. Он не мог и сам удержаться, начинал прыгать, скакать, иногда бежал за пароходом. А однажды, когда из Калуги шла «Екатерина» с гостями Ципулина и играла музыка, встречавший на берегу Глеб впал в некое исступление. «Из музыки родится танец» – здесь оказался живой пример: на берегу, выражая восторженные свои чувства, под калужский оркестр с парохода исполнил Глеб яростную сарабанду. На пароходе смеялись, аплодировали. Дамы махали платочками. Ничего, это была уже слава, Глебу нравилось. А потом удалилась «Екатерина», разводя по Оке волны в пузырях, хлюпавшие в прибрежном ивняке.
Не только пароходы, но и сама Ока входила в жизнь его, ощущал он ее как живую. Не скучал с нею – целые часы мог проводить при ней. Таская ружьецо, старался подстрелить цаплю – огромную и долговязую, садившуюся на островке. Но она внимательна. Сколь ни старался Глеб подкрасться незаметно, в нужный момент грузно, неуклюже делала она икающие движения – не то бежала, не то бросалась в воздух и тяжеловесно, почти смешно улетала. Любил он и приокских чаек – даже не стрелял их, просто следил рассеянный, небрежный их полет, точно бело-коричневые птицы эти ленятся лететь, машут крылами чуть ли не из вежливости. Они легко садились на воду, покачивались, тихо плыли и вновь, неизвестно куда, улетали. Они были, как все на Оке и в Будаках, волшебные, прелестные.
А тихие раки под камушками в воде? Шныряющая рыбешка? Кулички, кроншнепы на отмелях низового берега, за рекой? Облака, над Окою медленно и сладостно протекающие?
Если подняться от реки дорогою среди рощи, то немножко лишь отойдешь, будут грибы – сколько боровиков! Боровики целыми семьями, тугие, крепкие. Молодые – в коричневых своих круглых шлемах, постарше – с более плоскими головками, бархатно-золотой подоплекой-подкладкой, разрыхленной ножкою. И какой от них запах! – сырости, леса, свежести… Тройной настой жизни.
Радостно ходить с Лизою по грибы, наперегонки собирать их (под водительством кухарки, или Арешкиной жены). В блужданиях по березовым рощам заходили и дальше, к дикому, глухому месту Никольского «верха» – Провальной Яме. Как это жутко! Обрыв, сверху почти отвесный, дальше воронками, крутыми скатами, заросшими мелким кустарником, как в ад сводит в глубину. Туда не спуститься. Там страшно. Живут лисы, барсуки… вот в этих диких склонах, в тишине нечеловеческой, в паутинках занавешивающих роют таинственные звери свои норы, неслышно перебегают там. А из птиц лишь сороки стрекочут – пустынно, глухо. Это считается как бы проклятым местом, Провальная Яма, точно бы нечто провалилось и открыло путь в преисподнюю. Вот сюда бы ночью прийти…
Но об этом даже думать жутко. Там наверно совы стонут, падаль догнивает.
По ночам Глеб и Лиза мирно спали в спаленке будаковской, но вечерние часы стали чудны для Глеба теперь потому, что – наконец-то! – позволили ему гонять с работниками и мальчишками лошадей на водопой и в ночное. Это, разумеется, необычайно! На заре, при лиловеющем сумраке сидеть без седла на каком-нибудь Червончике, держа поводья одной рукой, а другой на всякий случай придерживаться за холку, ощущать под ногами теплые Червончиковы бока, то вздувающиеся, как мехи, то вдруг опадающие – веселой гурьбой сквозь вечерние рощи березовые катить вниз к Оке, закидываясь сколько можно назад, чтоб не съехать на шею… страшно, и сладостно! Правда, Вальтона тут нет, но другие мальчишки, да и работники – все тот же простецкий, калужско-русский мир… У Оки лошади лезут в воду, вытягивают вперед шеи (тут берегись с поводом! дернет – и чрез лошадиную голову как раз угодишь в реку) – теплыми губами, булькая, тянут воду, фыркают, надуваются, переругиваются между собой, скаля зубы и хватая друг друга за шеи и челки. А потом – в горку – тут уж не страшно, и гораздо удобней сидеть. Духом взлетают, вновь через усадьбу гонят в поле. Вот тут хорошо! Закат угас уже, поле полно теплого веянья, полынь, мёжи, Ока вдали, серебряною лентой. И вдруг улюлюканье, впереди малый пускается вскачь, и все лошади подхватывают. Глебов Червончик туда же – сразу в ушах ветер, пряный, горячий воздух, настоявшийся над пахотой, дух захватывает, Глеб без стеснения держится обеими руками за холку, темное поле летит под ними, и только впереди дикое стадо скифских лошаденок, мчащееся без толку, свист, гогот да лиловое небо, истаивающее, обольстительное, навстречу – так в небо на этих скакунах и залетишь.