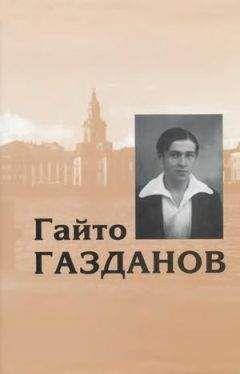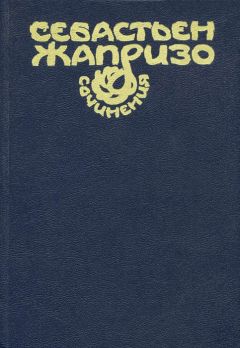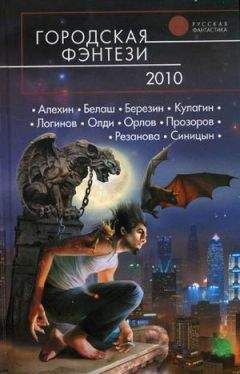Гайто Газданов - Том 3. Романы. Рассказы. Критика
– Всякая любовь есть попытка задержать свою судьбу, это наивная иллюзия короткого бессмертия, – сказал он как-то. – И все-таки это, наверное, лучшее, что нам дано знать. Но и в этом, конечно, легко увидеть медленную работу смерти. «Vouloir nous brule et pouvoir nous detruit»[18] – вы найдете это в «Шагреневой коже» Бальзака.
Она ставила себе вопрос: что давало этому человеку силу жить? То, во что верили другие, для него не существовало; даже самые лучшие, самые прекрасные вещи теряли свою прелесть, как только он касался их. Но его притягательность была непреодолима. Елена Николаевна знала, что это неизбежно, и, когда она стала его любовницей, ей казалось, что она вспоминает нечто случившееся уже давно. И еще несколько позже она поняла, как этот человек мог существовать и что поддерживало его в этом длительном путешествии навстречу смерти: он был морфиноман. Она однажды спросила его, как могло случиться, что он, с его умом и способностями, он, который был, несомненно, выше всех, кого она знала, – мог дойти до такого безнадежного состояния?
– Это потому, что я пропустил свою смерть, – ответил он.
Ее роман с ним был омрачен еще одним трагическим событием. Прежняя его любовница, хозяйка того дома, где Елена Николаевна впервые услышала музыку Скрябина, не могла примириться с новым положением. Она писала угрожающие письма, грозила разоблачениями, сторожила часами у подъезда его дома. Это была вздорная женщина, которая, как он выразился, прожила свою жизнь, задумавшись раз навсегда о какой-то ерунде, затем влюбилась в него, и это заполнило все ее существование. Любил ли он ее? Нет, это было затянувшееся недоразумение. Но кончилось оно трагически: она отравилась, оставив мужу подробное письмо, в котором рассказывала историю своего романа и объясняла, что лишает себя жизни, так как этот человек не хочет больше с ней жить. С наивной жестокостью она прибавила: ты, который меня так любил, ты должен понять, что это такое.
Он пытался приучить Елену Николаевну к морфию, – и, в сущности, это было единственное, что ему не удалось. После первого опыта она опгутила, как она сказала, ледяную, непостижимую до тех пор прозрачность, но потом ей было дурно, и она никогда больше не повторяла этой попытки. Во всем остальном она чувствовала, что сдает и, в конце концов, гибнет. То, что она вначале воспринимала как интересные вещи, как возможность нового постижения мира, стало постепенно казаться ей естественным. То, что она всю жизнь считала важным и существенным, неудержимо и, казалось, безвозвратно теряло свою ценность. То, что она любила, она переставала любить. Ей казалось, что все увядает и что вот остается только – время от времени – какая-то смертельная восторженность, после которой пустота. Ей казалось, что ее отделяли от встречи с ним уже целые годы утомительной жизни и что в ней не оставалось ничего от прежней Леночки, какой она была как будто бы так недавно. Изменился даже ее характер, ее движения стали медлительнее, ее реакции на происходящее теряли свою силу, словом, все было так, точно она была погружена в глубокий душевный недуг. Она чувствовала, что если это будет еще продолжаться, то кончится небытием или падением в какую-то холодную пропасть. Те попытки, которые она делала, чтобы изменить его жизнь – потому что она, несомненно, любила его, – ни к чему не привели. И та теплота, которая в ней была, постепенно слабела и уходила.
И вот как у человека, наполовину отравленного газом и почти теряющего сознание, хватает силы доползти до окна и отворить его, так у нее хватило силы, проснувшись однажды утром, уложить свои вещи и уехать на вокзал, а оттуда в Париж. Но до этого она сделала все, что могла, пытаясь вернуть его к сколько-нибудь нормальной жизни. Она рассказала мне о своем последнем разговоре с ним. Это было вечером, в его квартире. Он сидел в кресле, у него было усталое лицо и потухшие глаза. Она сказала ему:
– Все как-то так чудовищно в твоей жизни, что у меня опускаются руки. Ты говоришь, что любишь меня?
Он кивнул головой.
– Ты себе представляешь, что у меня может быть ребенок?
– Нет.
– Мне кажется, что я так же имею право быть матерью, как всякая другая женщина.
Он пожал плечами.
– Я могла бы выйти за тебя замуж. Вместе с тем, ясно, что это абсурд. Ни то ни другое невозможно. Почему? Ты считаешь себя осужденным на смерть. Но мы все осуждены на смерть.
– Иначе.
– Почему?
– Потому что все понимают это только теоретически, а я знаю, что это такое. Почему? Не могу объяснить. В некоторых тюрьмах арестантов отпускают в город под честное слово на день или два. Они так же одеты, как все остальные, так же могут обедать в ресторане или сидеть в театре. Но они все-таки не похожи на других – не так ли? Меня отпустили на некоторое время; я не могу ни думать, ни жить так, как все, потому что я знаю, что меня ждут.
– Это одна из форм сумасшествия.
– Может быть. Кстати, что такое сумасшествие?
– Ты понимаешь, во всяком случае, что это не может так продолжаться. Я не могу так жить.
– Всякая другая жизнь показалась бы тебе теперь неинтересной и лишенной привлекательности. Ты никогда не станешь такой, какой была раньше.
– Почему?
– Во-первых, потому, что это маловероятно.
– А во-вторых?
– Во-вторых, потому, что я этого не допущу.
– Ты хочешь сказать, что ты остановишь меня?
– Да.
– Каким путем?
– Это не важно, каким угодно.
Бели бы этого разговора не было, она, вероятно, осталась бы с ним еще на некоторое время. Но мысли, что ее можно к чему-то принудить или удержать какой-то угрозой, она не могла перенести.
И, уехав от него, она убедилась, что в его словах была значительная часть истины. Она была отравлена его близостью, может быть, надолго, может быть, навсегда. И вот как будто только теперь, впервые за все эти месяцы и годы, она почувствовала, что, может быть, это не безвозвратно. Она буквально сказала эту фразу:
– И вот только теперь я начинаю думать, что это, может быть, не безвозвратно.
Я отошел от окна и сел рядом с ней на диване.
– Какой ты теплый, – сказала она.
– Он, конечно, не знает, где ты?
– Нет, он знает только, что я уехала. Я не думаю, чтобы он мог меня найти. Можно, я лягу? Я устала от того, что рассказала тебе это. И вместе с тем, я всегда знала, что когда-нибудь я буду кому-то рассказывать о моей жизни, потому что он будет меня спрашивать об этом и потому что в эти минуты я буду его любить. Ты видишь, как давно я знала о тебе?
– Да, конечно. А потом ты кому-то будешь рассказывать обо мне. И ты скажешь: он писал некрологи, и спортивные отчеты, и статьи о женщине, разрезанной на куски, – и что еще, Леночка?
– Еще – что ты больше понимал, чем умел сказать, и что твои интонации были выразительнее, чем слова, которые ты говорил. Но, может быть, я этого никому не скажу.
Я снова возвращался домой по пустынным ночным улицам, и, несмотря на то, что мне хотелось заснуть и не думать ни о чем, я все же не мог избавиться от размышлений по поводу этого человека, о котором рассказывала Елена Николаевна. Что могло случиться с ним, что вызвало в нем этот страшный вид душевной болезни? Я знал, что поиски какого-то отправного момента, с которого начинается всякий душевный недуг, всегда мучительно трудны и чаще всего совершенно бесплодны. Кроме того, даже если бы я нашел абсолютно правильное решение этого вопроса, у меня не было никакой возможности его проверить. И затем – какое мне, в сущности, было дело до этого человека? Я только липший раз убеждался в том, что в силу неизменно повторяющейся случайности, может быть, в силу каких-то других причин, которых я не знал, в каждом моем романе всегда был ненужно-трагический элемент и это почти никогда не было по моей личной вине. Обычно это бывала вина одного из моих предшественников, за которую невольно приходилось расплачиваться мне. В некоторых случаях судьба была особенно насмешлива по отношению ко мне. Я не мог забыть, как я встретил одну женщину, замечательную во многих отношениях, но отличавшуюся непонятно-адским характером; я провел с ней несколько лет, мне было ее искренне жаль, и я делал все, чтобы она была менее несчастной, так как она сама была первой жертвой своих собственных недостатков. Долгий период душевного спокойствия повлиял, наконец, на нее благотворно – и после этого она ушла от меня, особенно настаивая на том, что не питает ко мне никаких дурных чувств, и считая, с бессознательным простодушием, что это одно должно мне казаться чуть ли не незаслуженным счастьем. И через некоторое время ее новый любовник, очень милый вообще человек, сказал мне, что она ему много рассказывала обо мне, и он рад со мной познакомиться, и что она удивительная женщина с совершенно идеальным характером – и это так редко, как он заметил, в наш нервный век.
И мне начало казаться, что вообще моя роль заключается в том, что я появляюсь после катастрофы и все, с кем мне суждена душевная близость, непременно перед этим становятся жертвами какого-то несчастья. В некоторых случаях это принимало более трагический характер, в других менее, но это всегда бывало тяжело и осложнялось еще тем, что по вредной и давней привычке, от которой я не мог избавиться, я всякий раз длительно и постоянно обдумывал это, не принимая вещи такими, какими они были, и строя вокруг них целую систему моих собственных и напрасных предположений о том, как это могло бы быть, если бы было иначе. Я всегда искал причин, вызвавших ту или иную катастрофу, – и вот теперь я думал о моем лондонском предшественнике, об этом человеке с таким непонятным тяготением ко всему, что заключало в себе идею смерти. Чем могло объясняться возникновение такого душевного недуга? У меня не было решительно никаких данных, чтобы судить об этом. Но этот вопрос интересовал меня, помимо всего, еще чисто теоретически – как могла бы меня интересовать какая-нибудь произвольная психологическая проблема. Судя по его возрасту – Елена Николаевна как-то сказала, что он был лет на десять старше меня, – он, наверное, участвовал в войне, и, может быть, это повлияло на него? Я знал по собственному опыту и по примеру многих моих товарищей то непоправимо разрушительное действие, которое оказывает почти на каждого человека участие в войне. Я знал, что постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных, огромное красное пламя в ледяном воздухе зимней ночи, над зажженными деревнями, труп своей лошади и эти звуковые впечатления – набат, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные, неизвестно чьи крики, – все это никогда не проходит безнаказанно. Я знал, что безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее, и в них всех есть что-то сломанное раз навсегда. Я знал по себе, что нормальные человеческие представления о ценности жизни, о необходимости основных нравственных законов – не убивать, не грабить, не насиловать, жалеть, – все это медленно восстанавливалось во мне после войны, но потеряло прежнюю убедительность и стало только системой теоретической морали, с относительной правильностью и необходимостью которой я не мог, в принципе, не согласиться. И те чувства, которые должны были во мне существовать и которые обусловили возникновение этих законов, были выжжены войной, их больше не было, и их ничто не заменило.