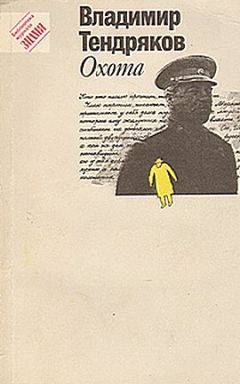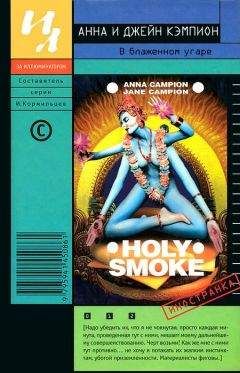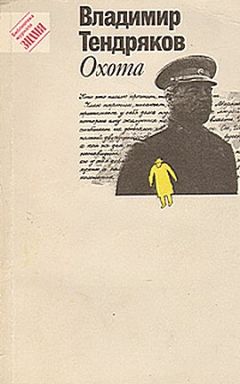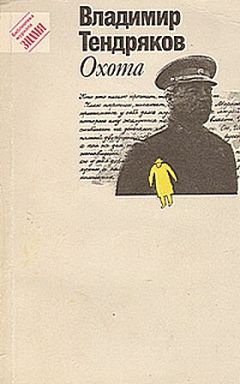Станислав Шуляк - Лука
Здесь было десятка два каких-то людей (или больше), которые бесцельно ходили на небольшом пространстве, нисколько не вступая друг с другом в беседы, но связанные все между собой одним труднообъяснимым общим ожиданием. Здесь Лука среди прочих незнакомых людей мельком увидел и академика Валентина, и человека сурового вида, и своего друга Марка (вернее - молодого человека, весьма похожего на Марка, тоже отменного красавчика), и даже, кажется, Деканову секретаршу, хотя она здесь была почему-то мужчиной, и потом, когда хотел взглянуть на них еще раз, то долго не мог отыскать их глазами в толпе.
- Равняйсь! - негромко скомандовал Лука, оказавшись посреди всех людей, и, кажется, только этого они все ожидали. Вмиг выстроились две шеренги, одна против другой, и, хотя обе были довольно ровные (во всяком случае, Лука не замечал особенного непорядка), но все повторил еще потвердевшим голосом два раза: "Равняйсь! Равняйсь!"
- Вы не подумайте, что я придираюсь к вам, добиваясь особенного равнения, - говорил Лука, выпрямившись и неподвижно стоя перед строем. - И не сочтите меня этакой новой метлой, которой доставляет, знаете, самолюбивое удовольствие мести не как-нибудь, а именно по-новому. Я всегда ясно сознавал опасность подобной установки, особенно для руководителя высокого ранга (хотя это и не избавляет от возможности перекосов), но лучше ясно знать все опасности, чем бездумно отрицать вообще существование их.
Но, подумайте, все самые лучшие свойства в человеке - плюрализм и интеллигентность, и я уж не знаю, что еще, ну хотя бы и бдительность - все зависит от хорошего равнения (а некоторые думают, что равнение нужно только для порядка, чтобы было красиво в глазах; это неверно. А военные так вообще: всегда красиво выстраиваются специально для укрытия безобразий.). Мысль сложная. Признаю. А для некоторых неискушенных умов и обременительная. Но необходимая, и каждый должен проделать некоторую умственную работу (для одного - большую, для другого - меньшую), чтобы единожды раз и навсегда убедиться в справедливости этой мысли. Мы не можем по многу раз возвращаться к одному и тому же. И в долгом пути не возвращаются к одному пройденному колодцу всякий раз, когда к ним подступает жажда. Подумайте еще: от нас с вами - от вас и от меня, и от Иван Иваныча зависит грядущая картина нового плюрализма; кто еще, как не мы с вами, должны теперь, не покладая рук, работать над нею?! Плюрализм сам по себе это только инструмент, пускай хороший инструмент, но все же только инструмент. И даже для самих себя нисколько не преувеличивая значения его, мы все же должны неустанно бороться за полное процветание плюрализма. Об этом заботились некогда и наши предтечи.
- Всякий раз нам даже в своих самых лучших деяниях, - говорил еще Лука, - трудно бывает балансировать между брюзжанием и благодушием, но, когда это все-таки удается, не следует такое балансирование уверенно называть реализмом, который значительнее, наверное, всех наивных определений его.
И, когда Лука заканчивал свою речь, он неожиданно заметил среди прочих сосредоточенных, умственных лиц в подтянувшихся шеренгах и внезапно подобревшее лицо человека сурового вида, которое как будто говорило: "Наконец-то и вы с нами".
- Разойдись! - скомандовал Лука, и, когда все разошлись, подчинившись приказу, молодой человек наконец мог свободно осмотреться вокруг. Все было как обычно в Пассаже. На месте была и выпуклая стеклянная крыша, и золоченые бра, и строгие галереи, и аккуратные прилавки вдоль стен, и горбатые мостики, соединявшие противоположные стороны зала и по которым в обычные дни протопывала, наверное, не одна тысяча ног поспешного, страждущего, говорливого народа. - Ну вот, теперь и мое существование, - радостно и торжественно подумывал Лука, - перетекает в какую-то новую, доселе неизведанную для меня ипостась. Какое волнующее, незабываемое сознание...
Все-таки не так просто и обыкновенно было все в Академии, чтобы это можно было бы объяснить все в нескольких словах. Ну, например: казалось бы, при такой высокой должности Луки кто может быть главнее его в Академии? И хотя и точно не было никого главнее, но в один определенный день (по пятницам, как впоследствии выяснил Лука) к нему в Деканов кабинет приходили двое, один из них - дворник, обычно подметавший территорию прямо под окнами Луки, другой - тоже весьма незаметная личность из физической лаборатории (совершенно ничтожная величина), не говоря ни слова, выводили Луку в коридор, укладывали его лицом вниз на обтертую упругими студенческими задами кривую железную скамью, вокруг которой всегда было вдоволь обслюнявленных, мятых окурков, спускали с молодого человека его мешковатые брюки и пороли по различным частям тела минут десять или пятнадцать сухими прутьями.
Пороли не больно, больше, наверное, для видимости, и однажды, скосивши глаза, Лука через приоткрытую дверь ближайшей аудитории, находившейся как будто в тумане, увидел лица студентов, в почтительном увлечении взиравших на всю экзекуцию, но по некоторому отдалению Лука не мог разглядеть, какие именно чувства выражают их лица.
- Скажите, - спрашивал Лука у поровшего его дворника и у второго своего мучителя, который, когда приходила его очередь пороть, заметно смущался своей ролью, - это, наверное, какое-нибудь введение покойного Декана? И мне кажется (хотя сама процедура и неприятна), что я понимаю его смысл.
- Ничего подобного, - возражали мучители Луки, деликатно приостанавливая наказание. - Не Деканом это введено было, не Декану это и отменять. И, хотя именно нам выпало исполнение этой процедуры (весьма неприятной), мы же утешаемся мыслью, что через некоторое время, может быть, кого-то другого назначат для этого.
- Неужели... - воскликнул Лука и даже испуганно прикрыл себе рот ладонью, пораженный неожиданной догадкой. - Неужели... и покойного Декана?.. Нет, я даже не знаю, как произнести такое... И покойного Декана так же, как меня... вот как сейчас... пороли тоже?..
- Не знаем, - решительно отвечали двое собеседников Луки. - Мы тогда еще не были при должности. И хотя в нашей среде ходят различные слухи, самые невообразимые и безобразные слухи, мы же придерживаемся того убеждения, что не следует их передавать дальше. И вообще: чтобы прекратить все самые вздорные слухи, нужно лишь, чтобы нашлись люди, готовые не пересказывать все ими услышанное (хотя это и удовольствие), нужны люди, на этом поприще стать преградой для вздорных домыслов, стать плотиной, нужны застрельщики. И, хотя это и трудно, но возможно. Возможно при наличии доброй воли, ясности цели и некоторой твердости, - говорили еще поровшие, и Лука соглашался с такими рассуждениями.
- Это такое разумное введение, - размышлял Лука, натягивая брюки после экзекуции. - Эта процедура исполняется в противовес моему высокому значению. Это чтобы я не заносился. Ее так важно применять вообще ко всем руководителям высокого ранга, и, если бы это не было придумано еще до меня, то я, пожалуй, должен был бы подумать об издании закона, предписывающего действовать в таком духе.
Однажды Лука взялся инспектировать отдаленные корпуса в Академии ради открытия и познания всего им доселе неизведанного - смотрит: а в одном из корпусов (который был довольно далеко, и его иногда совсем не находили даже хорошо знающие дорогу туда) - собрание каких-то увечных людей - кто без руки, кто без ноги, кто без того и другого, а кто, если вовсе и не увечный, то по крайней мере такого изможденного и согбенного вида (должно быть, от внутренней болезни), что и не слишком сам отличается от мертвеца.
А это что, говорит Лука, что такое? Что это все значит? А это ничего, отвечают, ничего страшного. Вы сюда не смотрите. Это все жертвы плюрализма. Но вы не беспокойтесь, завтра же их здесь не будет. Мы позаботимся об этом.
- Хорошо, - строго соглашался Лука. - Чтобы все было, как вы сказали!
Луке принесли по почте письмо от академика Валентина. - Уважаемый Лука! - писал академик. - Я очень сожалею, что во время нашей прошлой дружеской встречи я не успел доложить вам о некоторых своих убеждениях. О, у нас, у моряков, все не так, как на суше. У нас все другое. У нас своя этика, свои образы, свои мысли, своя мораль. И посудите сами: а может ли быть по-другому?! Потому что одно дело, когда идешь себе спокойно по суше, а совсем другое дело, когда плывешь по морю. Поневоле приходится подделываться под обстоятельства.
Однажды мы стояли у берегов Аргентины, и у нас прямо на рейде утонуло судно. А мы тогда все были на берегу. А потом ко мне подходят и говорят: "Вы знаете, мы долго думали: это, наверное, вы виноваты в том, что утонуло судно". А я им отвечаю: "Что?! Да вы что себе позволяете говорить?! Ведь я же все-таки академик! Да вы сначала сами станьте академиками, а тогда уже говорите, если вас уж действительно так интересует, кто виноват. Нашли, видите ли, крайнего. Нет уж, вы ищите кого-нибудь виноватого поменьше. А может быть, это вообще крысы виноваты? Недаром они бегают с корабля. Может быть, они там перегрызли что-нибудь. Я ведь не бегаю, потому что не чувствую за собой никакой вины. Не-ет!.. Надо искать того, кто бегает. Всякий бегающий виноват. Я бы вообще со всех бегающих спрашивал".