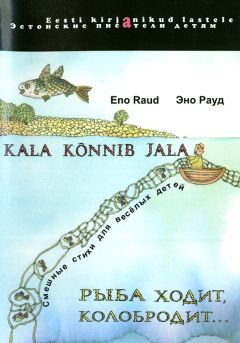Владимир Гиляровский - Рассказы и очерки
Таковым был Миргород зимой, Миргород, прославленный Гоголем, и весь этот край, где каждое место напоминало Гоголя, – край, который смело можно назвать «Гоголевщиной».
Каждое правдивое слово о великом писателе, характеризующее и его и ту обстановку, которая послужила для его творчества, всякое подобное сведение есть уже ценность, которая должна принадлежать всем.
Это обстоятельство заставило меня сделать еще целый ряд поездок в Гоголевщину, тогда я старался главным образом обращаться к тем современникам поэта, которых никогда и никто не расспрашивал и которые без всякого желания рисовки правдиво поведывали мне то, что сохранилось в их памяти, нередко даже выказывая удивление, зачем у них спрашивают такие неинтересные, по их мнению, вещи.
* * *Поведаю, о чем могу, в том порядке, как это видел я во время пути, который был хорошо известен Гоголю. Собрав материал по воспоминаниям о Гоголе, мне пришлось волей-неволей остановиться и на настоящем этих мест, сохранивших те черты, которые известны читателям Гоголя.
Все эти места поэтому и назвал я одним словом: Гоголевщина.
Не будь Гоголя, разве говорили бы о них? Разве говорили бы об Украине?
Конечно, говорили бы… А Полтавский бой? Разве он не прославил страны?..
Да, были герои-победители… Об этом свидетельствуют могилы, дела рук героев…
А после них прошли два мирных человека с записными книжками в руках, один обессмертил Полтаву в чудных стихах, а другой заставил весь мир полюбить милую, симпатичную Украину…
Ни Полтавы, ни Украины без них не знали бы…
От героев меча остались могилы, от людей – слова, правда и любовь.
Выехал я из Полтавы по исторической диканьской дороге и, проехав почти с версту, невольно оглянулся назад.
Украинская красавица, утонувшая в садах и тополевых аллеях, изменилась. Впереди раскинулись широко, широко поля, ярко-зеленые озими с желтыми оазисами, хуторскими садочками, золотом отливающими при ярком блеске сентябрьского солнца.
Резкой полосой прорезает изумрудную зелень черная дорога, по которой когда-то ездил Гоголь…
А ранее, еще ранее на этих полях, спокойных, изумрудных полях
Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча,
Бросая груды тел на груды;
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть, и ад со всех сторон.
Ужасное было время, и напоминают о нем эти зеленые курганы по сторонам дороги.
И воздвигла эти курганы прихоть и жажда славы одного человека…
Мне представлялось: вон там, в балочке, двое бледных, испуганных всадников боязливо скачут по очеретам…
Нет уж давно-давно их сначала молниеносных, потом испуганных взглядов, полных отчаяния, нет уж их грозного воинства – ничего не оставалось на этих полях, кроме поросших травою могил, а поля все неизменны, свежи, зелены…
Да осталось еще народное название местности по дороге, характеризующее то время, а название это – Побиванка.
А за Побиванкой – Петрова долина, а дальше – Переруб, а там – и Диканька.
Вот при въезде – аллея из дубов, таких пятиобхватных да угрюмых, каких на свете, пожалуй, не увидишь.
Это те самые дубы, о которых Пушкин сказал:
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
А за дубами – Диканька с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми лесами, в которых водились даже стада диких коз.
Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день.
Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на солнце – переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться – зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с желтым ковром… Да еще тишина нарушилась двумя красавицами – дикими козами, которые быстро пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке… И конца-края нет этому лесу. А посреди него – поляны, где пасутся табуны… Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом…
Великолепны окрестности Диканьки и великолепен дворец, в котором между драгоценностями хранилась в дорогом шкафу рубаха Василия Кочубея. Простая белая рубаха с пятном крови. После казни в Белой Церкви рубаха Кочубея досталась его родственникам и до последнего времени хранилась в церкви в селе Жуках. Несколько лет тому назад в Жуках ожидали архиерея, объезжавшего епархию, и попадья, решившая, что не подобает владыке видеть окровавленную рубаху, вымыла ее, но все-таки кровь отмыть не могла. Тогда владелец Диканьки, В.С. Кочубей, взял эту реликвию к себе и устроил ей помещение в своем дворце.
Сзади дворца – сад, а еще дальше, за прудом, и село Диканька, где кузнец Вакула так расписал свою хату, что приезжавший блаженной памяти архиерей даже спросил:
– А чья это такая размалеванная хата?
Та самая Диканька, где жил дьяк Фома Григорьевич, «кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него – в лице какая-то важность сияет; даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение; в церкви, когда запоет на клиросе, – умиление неизобразимое».
Прошел я из дворца и парка в Диканьку, для скорости пути едва пролезши в какую-то дверь в заборе, перешел мостик и стал подниматься в гору, к Троицкой церкви, которую расписывал Вакула и в которой Фома Григорьевич дьяком был.
Остановился против церковной ограды у хаты, а на воротах написано: «Петр Андреевич Зеленский».
– Чья хата? – спросил я подошедшего человека, не молодого и не старого.
– Хата была Петра Андреевича, дьяка, а как он умер, так перешла к новому дьяку, его преемнику. То был дьяк!
– Вроде Фомы Григорьевича?
– Вроде Фомы Григорьевича, да еще почище. Почтенный был, все молчал, да слушал, да табак с такой важностью нюхал, что шапку – увидишь – скинешь. А как на клиросе пел! По-старинному и даже невольно умилительно. А выпить мог – уму невообразимо. Бывало, праздником пьет, пьет – и не узнаешь. А как запоет «Волною морскою», да вскочит, тряхнет плечами, да гикнет, и пойдет, и пойдет!.. Вот это был дьяк. Больше пятидесяти лет здесь прослужил.
Шли мы по диканьским улицам, и все мне мой спутник рассказывал, и видно, что читал всего Гоголя.
– А вот и Вакуленко, – указал он мне кузницу.
Я поинтересовался:
– А что, все у вас так же, как вы, Гоголя знают?
– Да, Диканька должна знать и знает Гоголя, у нас неграмотных, кажется, совсем нет. Диканька – это Гоголевщина… Как же нам не знать его.
* * *В тот же день я выехал из Диканьки в Яновщину. Вот балка Пустовидка. Здесь когда-то сидел разбойник Пустовид. Вот Зозулина балка. Вот Дьячково. Вот хутор Задорожный. Владельцем его был казак Григорий Ефимович Задорожный, старейший в округе. Еще во времена Гоголя он был церковным старостой в Яновщине, и после каждой церковной службы Мария Ивановна Гоголь приглашала его в дом.
– Добрая была. Бывало, у меня в церкви разменяет десять рублей и все раздаст бедным. А паныч (Гоголь) еще добрее был. Помню, раз при мне говорил Марье Ивановне: «Смотрите, чтобы не обижали людей». Приедет, бывало, поговорит с народом ласково-ласково. Добрый паныч был.
От Задорожного я заехал в Невенчанную балку; балка эта на десяток верст по странной случайности искони была вся населена холостяками-помещиками, записывавшими своих многочисленных детей к себе же в крепостные. Приехал на хутор, которым владели братья Мироненки.
Мироненки были уже пожилые люди, родные братья. Жили они и прежде бедно, а потом умер их богач дядя Шафранов и оставил им имение и деньги. Стали они делить такое богатство. Крупное поделили, а на мелком поссорились. Не поделили старую молотилку. И стоит она, гниет на дворе у обоих на глазах, чтобы никто пользоваться ею не мог. Старший брат Иван Иванович соглашался продать молотилку и деньги поделить и даже пожертвовать на школу, а младший Петр Иванович уперся и говорит:
– Нехай она сгние! Або моя, або хай сгние!
И поссорились из-за молотилки и друг друга видеть не желали и знать не хотели. Живут, будто и знакомы не были.
Великий Гоголь провидел этих двух братьев, которых так живо изобразил в Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче.