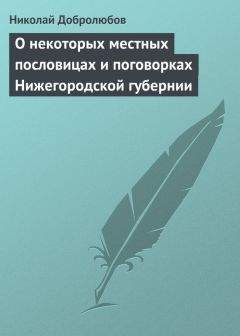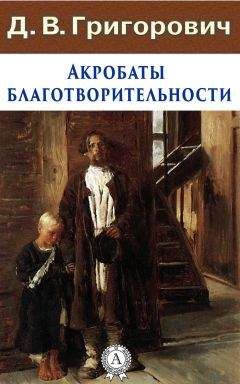Николай Помяловский - Мещанское счастье
Аркадий Иваныч отошел в сторону и остановился в раздумье. На лице его заметно выразилось недоумение.
— Может быть, Егор Иваныч, я действительно не в свое дело суюсь… может быть, сердечные обстоятельства…
Обросимов наблюдал за ним. Егор Иваныч опустил руки в карман и наклонился к стеклу. Он покраснел.
«Дурак же я», — подумал Обросимов.
А на душе Егора Иваныча было одно чувство ожидания, скоро ли отстанет от него помещик, похожее на чувство школьника, которому учитель читает нотацию, когда у школьника не бывает ни раскаяния, ни внимания к словам учителя, а одно тягостное ожидание, скоро ли скажут: «Пошел, негодяй, на место». Потом у него повторилась в ума фраза помещика: «Может быть, сердечные обстоятельства», и почему-то Молотову припоминались фразы гоголевских героев; ему казалось, что гоголевские герои говорят точно таким языком. Молотову немного весело стало.
— Ну, так извините великодушно, — сказал Обросимов.
Егор Иваныч вдруг засмеялся.
— Бог вас поймет, — сказал помещик и пошел с этими словами к дверям.
Но у него явилось новое предположение, за которое он и ухватился с живостью. Странным может показаться, что Обросимов от души сожалел молодого человека. Но, глядя на дело объективным оком (по старости, мы не пишем обличительной статьи, а просто анализируем данные явления), должно сказать, что он любил Молотова, хотя в то же время смотрел на него как на плебея. Тут нет никакого противоречия: разве вы, например, не любите свою старую няню, но смеет ли она думать о равенстве с вами? Можно любить собачку, картину, куклу, — это не подлежит сомнению; можно любить своего лакея, крестьянина, подчиненного, — это не подлежит сомнению; и при всем том можно собачку выгнать, картину продать, куклу разбить, лакея выпороть, подчиненному дать головомойку, — это не подлежит сомнению. Обросимов любил Молотова: ему жалко было молодого человека, хотелось помочь ему; он готов был сильно беспокоиться о нем. Егор Иваныч не понимал этого. Он думал, что его не любит Обросимов. Молодой человек, очевидно, заблуждался…
— Может быть, денежные затруднения, так вы не стесняйтесь, пожалуйста, — сказал помещик.
— Нет, благодарю вас, — ответил Молотов сухо.
Обросимов переминался.
— Не оскорбил ли вас кто, Егор Иваныч?
— Нет, нет! — с живостью заговорил Молотов. — Как можно?.. Нет, никто не обидел, Аркадий Иваныч.
Обросимов пожал плечами.
— Но вас не узнать, вы совсем переменились…
Наконец Егор Иваныч не вытерпел:
— Да, у меня есть… затруднения… большие затруднения…
Обросимов стал слушать с полным вниманием.
— Но мне невозможно высказаться… поймите это… Господи, да что же это такое?
Егор Иваныч взялся за голову руками и опять повернулся к окну…
— Извините меня великодушно, Егор Иваныч… Будьте уверены, я нисколько не претендую на вашу скрытность… есть такие чувства…
— Да, да, есть такие чувства! — нетерпеливо и с заметной досадой перебил Молотов.
— Ну, извините меня… Пошли вам бог мир на душу…
Обросимов отправился к двери, но опять остановился.
— Вот что, Егор Иваныч: вы теперь расстроены, поэтому вам не совсем удобно заниматься… вы не стесняйтесь, отдохните…
Молотов молчал. У него появилось судорожное движение в скулах… Еще бы немного, и он наговорил бы помещику грубостей; в голове его стали складываться довольно энергические фразы…
— Пожалуйста, не стесняйтесь, — и с этими словами помещик вышел вон.
— Насилу-то!.. — проговорил Молотов. — Черти! Мерзавцы…
. . . . .Тут изящного ничего нет: Егор Иваныч ругается, и ругается довольно грубо…
. . . . .Егор Иваныч отвел душу энергическими выражениями, и мы будем продолжать.
После излияний Обросимова ему еще тяжелее; еще запутаннее и бестолковее стали его отношения к чужой семье. Никогда он не ощущал такого сильного, неисходного, томящего чувства одиночества, какое теперь охватило все его существо. Слезы пробивались на его глазах, а он всегда стыдился слез, не любил их… Егор Иваныч напрягал мускулы, чтобы не заплакать, но непрошеные слезы сами ползли и, медленно пробираясь по щекам, падали тяжелыми каплями, и много было соли в тех слезах… Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Один, один на всем свете!» — эта мысль поражала его, холодом обдавала кровь, он терялся… «Пора жизнь начинать, надобно уйти отсюда, а куда идти? Зачем идти? Для кого?» Толпами идут из души мысли, самые разнообразные и доселе мало знакомые, — откуда они поднялись? Среди их основное чувство — досада и жалоба на обиду. Гордость, эта страшная сила в своем развитии, мучила его так, как мучит человека преступного совесть. Ему стыдно было, что его отталкивали от себя некоторые люди, а как примут его другие — не знал он, и являлось сомнение в своем достоинстве. И все один, некому слова сказать. Заперта в нем эта сила гордости, не разрешенная ни единым откровенным словом, сила жалоб на одиночество, тревога несозревших вопросов и предчувствия темной будущности. Перелом совершался в его жизни, а тяжелы те минуты, когда человек переходит тяжелым шагом из бессознательного юношества, ясного, как майский день, в зрелый, сознательный возраст. Это время дается легко и мирно одним дуракам да счастливцам… он просил смирения и спокойствия, не понимая, что смирение не в его натуре, которая теперь сказалась, а спокойствие редко бывает в период его жизни…
Но вот он огляделся, пошел к двери, посмотрел в соседнюю комнату — там никого не было. Лицо его осветилось особенным светом; в нем выразилось что-то доброе, смешанное с впечатлениями, только что согнанными… Надежда проливалась в его сердце. Неужели так сильна его натура, что, лишь только возникли в душе вопросы, он сряду же решил их?.. Вернувшись, он запер дверь на ключ, потом остановился в раздумье… Разнообразные впечатления пробежали по лицу его…
— Нет, не могу! — сказал он с тоскою.
Но он сделал усилие, и… как вы думаете, что он стал делать?.. он начал молиться.
. . . . .Недолго он молился.
. . . . .Молотов подошел к окну и несколько времени смотрел в него; потом подошел к столу, закрыл глаза и взял наобум книгу.
— Что это? — спросил он сам себя.
— Лермонтов, — сам же и ответил Молотов.
Началось пустое гаданье, которому человек образованный не верит; но кто не испытывал этого любопытства, смешанного с тайным, глубоко зарытым суеверием, которое говорит: «Дай открою, что выйдет!» Егор Иваныч раскрыл книгу… Лицо его покрылось легкой бледностью, и руки задрожали. Он прочитал:
«Несчастие мужиков ничего не значит против несчастия людей, которых преследует судьба».
Он судорожно скомкал книгу, бросил ее на пол и захохотал. Что-то дикое было в его фигуре; странно видеть молодое лицо, искаженное злобой, — неприятно. Он в эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэт не отвечает за своих героев, чтоб они ни говорили. Но он почти ни с кем не сообщался в это время, был в положении школьника, отвергнутого своими товарищами, в положении ужасном, при всем сознании правоты своей.
— Несчастье мужиков ничего не значит!.. их судьба не преследует! — говорил он. — Это господин Арбенин[9] сказал!.. Большой барин и большой негодяй!.. Черти, черти! — шептал он. — Господи, да с чего я выхожу из себя? Что мне до них?
Однако не скоро улеглась его злость.
Мало-помалу мысль Молотова перешла к тому, о чем писал Негодящев. Быть может, и справедлива была догадка, что друг, обличая Молотова, высказал свои личные немощи, но за всем тем много резкой правды осталось в письме. При помощи письма недавно возникшие вопросы определились окончательно и с новою силою хлынули в его душу. «Призвание?» — вот вопрос, от которого он не мог отделаться всею силою диалектики. Это слово было так значительно, что не оставляло его головы. С полным напряжением мозговой силы работал Егор Иваныч. Врасплох застала его новая задача; и учился он и жил, не думая о будущем. «Ты изучаешь свою старую жизнь и на основании такого изучения хочешь решить вопрос поистине громадного размера» — этого-то с ним и не было. Он раскаивался, зачем не думал о том прежде, зачем проглядел в своей жизни такой важный вопрос; Егор Иваныч не привык к нему, не приготовлен. Всего остается жить в Обросимовке несколько дней, а дальше? Дальше виделась какая-то бездна пустоты, безбрежный океан жизни, в котором ничего не рассмотреть. «Господи, твоя воля! — думал он. — Сегодня или завтра, на этих днях надобно решить задачу, зачем я родился на свет». Ему даже приходило на ум, не остаться ль в Обросимовке еще на месяц; но лишь только Молотов вспоминал, как он «ест много», — злость закипала с тем большей силой, что он раздражен был душевными вопросами и измучен. «Черти, черти!..» — шептал он. Молиться Егор Иваныч не мог, да ему казалось, и некогда молиться. Ужас охватил его страшным холодом, как человека, потерявшего надежду найти дорогу из лесу. «Призвание?» — ох, какая сила в этом слове для того, кто не успел отыскать в нем никакого смысла, а между тем понял все значение его. Многие у нас родятся как будто взрослыми, сразу поймут, что им надобно делать на свете, и, не спрашивая, что такое жизнь, начинают жить; иные эту безвестность жизни возводят даже в принцип, как Негодящев; иному скажут папаша и мамаша: «Будь юнкером, чиновником, дипломатом», — и эти счастливцы с пяти-шести лет знают, что они должны делать на свете. Егор Иваныч был поставлен в иные условия. «О, проклятая, бессознательная, птичья жизнь!» — говорил он и не понимал теперь, как это он жил до сих пор; ему не верилось, что он провел несколько месяцев так безмятежно; представлялось прожитое время какой-то сказкой, лирическим отрывком из давно читанной поэмы, а между тем эта поэма кончилась всего несколько дней назад… От мучительной работы ослабели его твердые нервы… наконец, пусто стало в голове… Так ученый труженик после семи- или осьмичасовой работы архивной, после микроскопического вглядыванья в мелкие факты, цифры и штрихи исторические, в виду огромных, покрытых пылью фолиантов, которые еще предстоит одолеть ему, — наконец опускает обессмыслевший на время взор и не видит ничего в своей тетради, курит сигару и запаху в ней не слышит. Легко сказать: «Я прямо смотрю в жизнь!.. Вон она!» — Как же!.. Лишь только жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными очами, Молотов зажмурился от невыносимого блеску очей ее. Оно в поэзии, в пасторалях и эклогах — так, а на деле невыносимо трудно бывает, если только папаша не сказал: «Ты дипломат», или мамаша: «Ты юнкер»… Наступил покой в душе Молотова, тишина; никакая мысль не шевелится, ничего не хочется, не чувствуется… Сгорбившись, с помутившимся взглядом, с глупым выражением лица смотрит он в воздух и ничего не видит… Вон трещина на штукатурке стены, и он следит за ее изгибами и сечениями: как будто нос выходит; потом начинает побалтывать ногою и внимательно смотрит на кончик сапога; с чего-то припоминаются слова сказки, говоренной еще отцом: «А Спиря поспиривает, а Сёма посёмывает»; потом он стал разглядывать ладонь свою, близко поднес ее к лицу и важно и без смыслу глядел на нее; слышит он, как будто волоса шевелятся у него, а по ноге ползут мурашки; все мелкие явления останавливают его утомленную полумысль. Он вздохнул, но это вздох физический, как и спокойствие его — физическое спокойствие, мучительное, мир, от которого избави бог всякого, страдание без борьбы; так охватывает вода человека, так душит его тяжелая перина… Но наконец засидевшееся тело просило, чтобы в нем разбили кровь. Молотов вышел на улицу, пошел через поле, мимо пашни, обогнул кусты у реки, к лесу, оттуда к кладбищу. Спокойствие уже не душило его. Это был простой моцион. Движение и разнообразие предметов занимали его. Вот он у мельницы, на той скамейке, где сиживал с Леночкою. Теперь он едва ли не совершенно спокоен, даже выражение лица его довольно и кротко, взор ясен, мысль блуждает беспредметно. Он стал напевать что-то, как часто напевал сквозь зубы. Возвращались силы и способность к впечатлениям. Надолго ли он успокоился? Не всякому выдаются такие деньки, какие выдались на долю Егора Иваныча, хотя — что такое с ним случилось? Ничего особенного. Это большой мальчик капризится, оттого что старшего над ним нет. Будь у него старшие, они, вероятно, объяснили бы Молотову, что ему иначе надобно понимать Обросимовых и иначе вести себя по отношению к ним, но у него не было руководителя, и пришлось все понимать по-своему, так, как бог на душу положит. Предоставьте человека самому себе, и выйдет с ним то же, что с Егором Иванычем: человек будет очень требователен. Хорошо ли это?.. Нехорошо?