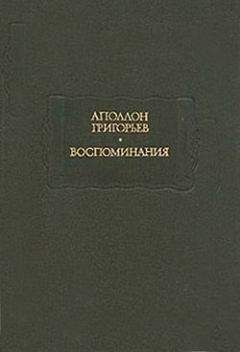Апполон Григорьев - Мои литературные и нравственные скитальчества
на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей,
и который в Москве старой видит идеал барского города... в великой, исторической, народной Москве, свободно растительно расстилавшейся в течение столетий своими "слободами", замыкаемой тщетно стенами то белого, то земляного города и рвавшейся в ширь беспредельную... Людям и не с таким узким идеалом народности, а все "старцы" тридцатых годов, старцы ли с котурнами или старцы в бланжевых чулках, именно такой только идеал в душе носили, было не под силу бороться с популярным купчишкой... Даже и серьезные, народные люди кружка "Московского вестника" не могли с ним бороться, потому что сами в сущности не знали, за что с ним борются. Они тянули к преданиям, к истории, к народу, да ведь и он по сердцу тянул туда же, только они не отличали преданий народа от преданий старцев и заявляли свою солидарность с ними, чего он,
Отродие купечества,
Изломанный аршин, {58}
не мог с ними разделять, ибо предания старцев он, демократ по рождению и духу, ненавидел так же сильно, как ненавидел их кровный аристократ Грибоедов.
За него было все, всякая новая европейская мысль, которую сообщал он тотчас же, схватывая ее на лету, читателям; каждое веяние жизни современной, да и само правильное чувство национальности. Этому чувству надобно было на время отнестись совершенно отрицательно к художественной постройке нашего исторического быта Карамзиным по одной, абсолютно-государственной идее - и Полевой явился в своей истории и в своих романах представителем этой отрицательной потребности: он начал работу, которая еще до сих пор не кончена, да еще и не скоро кончится.
Могли ли язвить его тогда и ругательства двух "Вестников", {59} и эпиграммы г. М. Дмитриева, {60} и водевильные куплеты Писарева. {61} Все это было тогда несравненно ниже его уровня.
Понятное дело, что люди впечатлительные, как В. А. Ушаков, я опять возвращаюсь к факту, с которого начал, были на его стороне, были совсем его сеидами, с азартом накидывались на все ему и им враждебное, и каково ни будь, например, мое и ваше глубокое уважение к покойному Аксакову, но фельетон Ушакова перестает возмущать ваше чувство... Ведь даже в менее крупных вопросах, чем те, которых я коснулся, изображая общее настройство эпохи, Полевой и его направление расходились постоянно с своими противниками.
Был, например, или, лучше, только что начинал быть в это время на сцене весьма странный чудак, которого имя я упомянул и которого имя я постоянно вношу самым смелым образом в историю целой полосы нашего развития, не просто как имя сценического художника, осуществителя образов, данных литературою, а как имя представителя веяния, творца образов самостоятельного, поэта, который был в своем творчестве цельнее и выше своих драматургов. Я говорю конечно о Мочалове, но не с тем, чтобы о нем повести речь... Место ему, как одному из великих воспитателей всего нашего поколения, в дальнейшем течении моих записок. Здесь я коснусь только отношения к этой гениальной силе того и другого лагеря. Аксаков, например, как сам художник, Загоскин, как даровитый и впечатлительный русский человек, князь Шаховской и Кокошкин, как большие знатоки и любители театра, конечно, одни, как Аксаков, и понимали и чувствовали, другие только чувствовали - что это за сила самобытная и могучая, но или все, кроме, впрочем, женственно восприимчивого Загоскина, не брали его таким, каким бог его создал, хотели от него чего-то условного в художестве, чего-то условного и в жизни, не мирились с его беспутством, возмущались его плебейством и прочая. Взять его таким, каким он был, Предоставлено было только Полевому, короновавшему его ролью Гамлета, да Белинскому, разъяснившему этого оригинального мочаловского Гамлета. Но обо всем объясним после.
Я рассказал вам, мой читатель (на читательниц в отношении этих глав я плохо рассчитываю и полагаю, что так называемые серьезные из них находят теперь более вкуса в анатомических, чем в исторических, Диссертациях),62 положение литературных шашек в избранную мною минуту.
Но вы не торопитесь, пожалуйста, совсем становиться на стороне не только что фельетониста Ушакова против С. Т. Аксакова и его кружка, но даже и на стороне Полевого против старцев и "Московского вестника". Вы все помните, все держите, пожалуйста, в голове пословицу: девять раз примерь и в десятый отрежь, и все имейте в виду концы, а именно:
1) Что В. А. Ушаков кончит "Висяшей".
2) Что Полевой напишет "Парашу", "Ермака" и проч.
3) Что, наконец, сама борьба, поднятая им против абсолютно-государственной идеи Карамзина, кончится в наши дни хохлацким жартом над русскою историею, сведением Московского государства на одну доску с разными отпадшими ханствами {63} и проч. или не то поморскими, не то просто поморными галлюцинациями русских историков "Искры". {64}
Вот вы это все имейте в виду, и так как процесс литературных стремлений есть процесс органический, то поприсмотритесь еще к данной минуте и посмотрим, нет ли уже в ней самой зачатков плана разложения.
Есть, и есть несомненно. Я говорил до сих пор "по волку", стоит только начать {65} говорить "против волка". {66}
Полевой и его направление действительно отражали в себе, как в зеркале, все современные веяния, но отражали безразлично, поверхностно, почти что бессознательно. Молодежь, воспитываемая этими бессознательно отраженными направлениями, делилась на две части: одну - меньшую, которая шла в глубь дела, принимала веяния всурьез, переводила их в жизнь и скоро ощущала страшное неудовлетворение поверхностным отражением, а другую, конечно многочисленнейшую, которая совершенно довольствовалась верхами и, вероятно, доселе век свой доживает в безразличном поклонении и Гюго и Марлинскому, и в абсолютном непонимании всего нового и живого, начиная с самого Гоголя.
Та и другая молодежь - два фазиса того, что я не раз уже называл русским романтизмом и что совершенно не похоже на другие романтизмы. Русский романтизм так отличается от иностранных романтизмов, что он всякую мысль, как бы она ни была дика или смешна, доводит до самых крайних граней, и притом на деле. Немец, например, может род человеческий производить от обезьян и исправлять какую угодно, хоть пасторскую, обязанность: доходить до крайнейшего отрицания всяких нравственных основ или до самых фантасмагорических галлюцинаций и не спиться с кругу, ибо таких чудаков, как Гофман, который от своих принцев-пиявок, Серпентин {67} и иных созданий своей чародейной фантазии обретал успокоение только в Ауэрбаховском погребке {68} да там же большею частию и создавал их, или таких, как Макс Штирнер, который довел до крайнейшей, безумной последовательности мысль об абсолютных правах человеческого я, да и сел в сумасшедший дом, - очень немного. Великий Гегель, по сказанию известного ерника Гейне, выразился как-то в беседе неуважительно насчет планет небесных, да и сел потом преспокойно за вист. {69} Француз тоже за исключением лихорадочных эпох истории, когда милая tigre-singe {тигр-обезьяна (франц.).} {70} разыграется до головокружения, вообще весьма наклонен к нравственной жизни, наслаждениям фантастическими и иными прелестями, по весьма правдивым сказаниям Федора Достоевского. {71} Но мы народ какой-то неуемный, какой-то грубо-первобытный народ. Мысль у нас не может еще как-то разъединяться с жизнию. Закружилась у нас голова от известных веяний, так уж точно закружилась. Печальные жертвы приносили мы этим вихрям в виде Полежаевых, Мочаловых, Марлинских, даже Лермонтовых.
Вот людей такого-то чисто русского закала, людей с серьезной жаждой мысли и жизни, способных прожигать жизнь или ставить ее на всякую карту, кроме еще небольшого кружка людей дельных, способных специально чем-нибудь заняться, мало удовлетворяло направление "Телеграфа" и общий уровень тогдашней литературы. Праздношатательство, эпикурейство, весьма притом дешевые, луна, мечта, дева, - тряпки, тряпки! - по позднейшему остроумному выражению Сенковского-Брамбеуса, {72} проповедуемые в поэзии сателлитами Пушкина и всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах; немецкий сентиментализм, который стал скоро примешиваться в повестях Полевого и других к лихорадочно-тревожным веяниям и вел совершенно последовательно к знаменитому приторно мещанскому эпилогу "Аббадонны", {73} - все это могло. удовлетворить окончательно только ту молодежь, которая, как например мой наставник, в сущности переводила романтические стремления на суть знаменитой песни:
Для любви одной природа
Нас на свет произвела, {74}
да уездных или замоскворецких барышень, которые все ожидали, что в последней главе "Онегина" явится опять не убитый им и только почтенный убитым Ленский и соединится с овдовевшею Ольгою, равномерно как Онегин с Татьяной. Из юношей, веривших в упомянутую песню, образовались или подьячие-пивогрызы, или лекаря-взяточники, или просто нюни и пьянюги; из барышень, конечно, Кукушкины, с жадностию читающие и в зрелых летах, "когда препятствия исчезают и два любящиеся сердца соединяются". {75} Все это как следует. Даже многие из поэтов тогдашних, проклинавших жизнь и сетовавших на то, как тяжело: