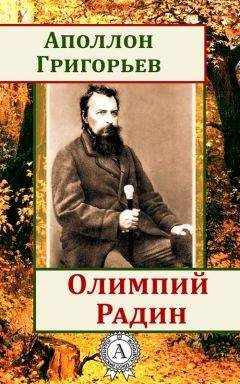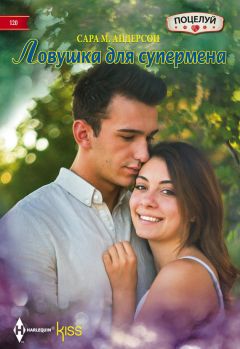Аполлон Григорьев - Мои литературные и нравственные скитальчества
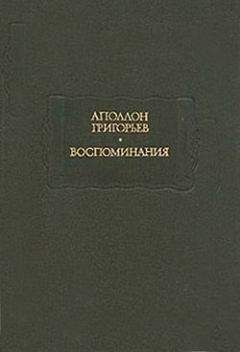
Обзор книги Аполлон Григорьев - Мои литературные и нравственные скитальчества
Аполлон Григорьев
Мои литературные и нравственные скитальчества
Посвящается М. М. Достоевскому
Вы вызвали меня, добрый друг,[1] на то, чтобы я написал мои «литературные воспоминания». Хоть и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни.
Мне сорок лет, и из этих сорока по крайней мере тридцать живу я под влиянием литературы. Говорю «по крайней мере», потому что жить, т. е. мечтать и думать, начал я очень рано; а с тех пор, как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями литературными.
Меня, как вы знаете, нередко упрекали, и пожалуй основательно, за употребление различных странных терминов,[2] вносимых мной в литературную критику. Между прочим, например, за слово «веяние», которое нередко употребляю я вместо обычного слова «влияние». С терминами этими связывали нечто мистическое, хотя было бы справедливее объяснять их пантеистически.[3]
Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах.
Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,[4]
взываю я к ним порою, и слышу и чую их веяние…
Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек «Телеграфа» и «Телескопа», с жадностью читаемых, дотла дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство, – эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья,[5] – эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и «Аммалат-беком».[6] Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая,[7] в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзиею, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настройству… А тут является колоссальный роман Гюго[8] и кружит молодые головы; а тут Надеждин в своем «Телескопе» то и дело поддает романтического жара переводами молодых лихорадочных повестей Дюма, Сю, Жанена.
Яснеет… Раздается могущественный голос, вместе и узаконивающий и пришпоривающий стремления и неясные гадания эпохи, – голос великого борца, Виссариона Белинского. В «Литературных мечтаниях», как во всяком гениальном произведении, схватывается в одно целое все прошедшее и вместе закидываются сети в будущее.
Веет другой эпохой.
Детство мое личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью. Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью. Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут. На входном пороге этой эпохи написано: «Московский университет после преобразования 1836 года»[9] – университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма, с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой, – университет Грановского.
A change came over the spirit of my Dream…[10]
Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербуржская литература…[11] В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние,[12] – но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской «Тли»,[13] мир «Песцов», «Межаков»[14] и других темных личностей, мир «Александрии»[15] в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского,[16] с особенным креслом для одного богатого купчика и вместе с высокой артисткой,[17] заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир.
И затем – опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди, люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые «продерживают»[18] в самих себе и в других все напускное, все подогретое, и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все «народное», даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел почти заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы, – поднимается в душе с нежданною силою и растет, растет до фанатической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды… Пять лет новой жизненной школы.[19]
И опять перелом.
Западная жизнь воочию развертывается передо мною чудесами своего великого прошедшего и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры.
Таков процесс умственный и нравственный.
Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом. Если для этого достаточно будет одной искренности, – искренность будет полная, разумеется по отношению к умственной и моральной жизни.
Одно я знаю: я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый исторический интерес.
1862 г. сентября 12.
Часть первая
Москва и начало тридцатых годов литературы. Мое младенчество, детство и отрочество
I. Первые общие впечатления
Если вы бывали и живали в Москве, да не знаете таких ее частей, как, например, Замоскворечье и Таганка, – вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере,[20] может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою. От ядра всех русских старобытных городов, от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город;[21] потом разросся земляной город,[22] и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое. Общий закон нашей истории – уход земской жизни из-под внешней нормы в уединенную и упорную замкнутость расколов, повторился и в Москве, то есть в развитии ее быта.