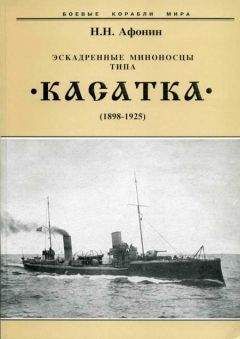Иван Подсвиров - Касатка
- Максимыч! По соседству зашел бы!
Я промолчал. Может быть, во мне заговорило самолюбие или что-то иное, значительнее самолюбия, побудило меня не отвечать ему на приглашение. Газик дернулся, Босов захлопнул дверцу, и мы помчались мимо соснового забора, полукольцом огибавшего мастерскую.
Несколько мгновений нелепая фигура Тихона мелькала в просветах между досками.
Не оборачиваясь и глядя прямо в ветровое стекло, Босов сказал:
- Раньше под шумок, под горячую руку у нас в хуторе кое-кого раскулачивали из-за пары шелудивых быков. Было и такое, что скрывать... Вон и ты из-за водокачки Ульяну Картавенко в пух и прах разнес. Опять ошибочка. Мелкая, но для нее чувствительная... А сейчас у одного Тихона в пересчете на живое тягло в личном пользовании десятки лошадиных сил. И нормально, никто его не собирается раскулачивать. - В голосе Босова послышалась тонкая насмешка. - Так-то, Федор Максимович. Времена и понятия меняются.
- Но человек меняется? Тот же Тихон?
- Тихон не исключение.
- К худшему или к лучшему он меняется?
Босов, откинувшись на спинку, не торопился с ответом, раздумывал. Газик бойко бежал по хутору, подпрыгивая на твердых выбоинах шоссе.
- Не тебе спрашивать о Тихоне, - наконец заговорил он. -Ты его знаешь как облупленного. В свое время он натерпелся, намучился - и вот настала пора другой...
радостной жизни. И он живет в свое удовольствие. Как умеет. Ты же не станешь осуждать Тихона за то, что у него дом в пять комнат, машина, гараж? Теперь хоть, надеюсь, не станешь?
- Нет, Матвей, этого я делать не буду, ни под каким предлогом. А все же как-то грустно, не по себе.
- Я тебя понимаю. Мне от этого самому иногда тошно. Ну да, плохо, когда люди поддаются одному накопительству, теряют меру. Тут и облик человеческий недолго потерять. Но я другой раз утешаю себя вот чем: это у Тихона от бескультурья, от непрошедшего чувства былой нужды. Вдруг настанет день, и он опомнится. Вырастет у него сын, который не знал, что такое чурек с лебедой. Ему откроются другие ценности. Как думаешь, настанет такой день? - Босов обернулся, пристально заглянул мне в лицо ищущими, беспокойными глазами.
- Не будем терять надежды.
- Вот именно, не будем, - с жаром подхватил Босов. - Машина у него есть. Мотоцикл купит. Что ему еще понадобится? Ну цветной телевизор, ковры, хрусталь...
А дальше что? Дальше он все равно купит книгу. Пусть только затем, чтобы не отстать от моды. Пусть! Сам в ней не прочтет ни строчки - ладно, я и это ему прощаю.
Зато сын или внуки непременно прочтут ее - и книга оживет, сослужит пользу.
- А что, Тихоном и вправду овладела мания приобретательства?
- Водится за ним этот грешок, - кивнул Босов. - Рубль сверх меры любит, готов из-за него день и ночь вкалывать. Но работник, скажу по совести, незаменимый. Безотказная душа. За что ни возьмется - сделает.
С такими, знаешь, все же легче, чем с пьяницами и лодырями. Тихон хозяин. Его никакая сила не вырвет из хутора. Двор у него широкий, дом полная чаша, огород и сад ухоженные. И дети его, прежде чем куда-то сбежать, подумают: а стоит ли? Будущее их обеспечено надежно. От добра добра не ищут. Это легко перекатываться по земле тем, у кого ни кола ни двора, на сердце - безразличие ко всему.
Мы подъехали к Чичикину кургану и вылезли из машины. С солнечной, противоположной стороны от хутора он полого скатывается, рыжея прошлогодним неслегшим бурьяном, и постепенно сливается с ровным полем, снизу распаханный и ярко пестреющий краем цветастого ковра, как бы небрежно расстеленного до самого Пятилеткина стана, до его серых у темно-зеленого выгрева построек. Розовые, густо-красные, белые головки клевера источали приторно-сладкий стойкий запах, над ними протяжно, хмельно гудели тяжелые бархатные шмели...
На середине ската, в просевшей ложбинке, обкошенной и вкруг обложенной камнями, сиротливо, вкось держался трехгранный, грубо и наспех вытесанный каменный столб - памятник герою гражданской войны Ефиму Чичике, расстрелянному шкуровцами на нашей хуторской площади и после захороненному здесь бурей ворвавшимися в Марушанку красными конниками. Снизу камень взялся несмываемой прозеленью, сквозь нее едва проступали из грозившего им забвения скорбные, исполненные гордой торжественности слова: "Спи, земляк и верный боец за народную власть. Память о тебе вечна".
Мы постояли у могилы Ефима Чичики, сошли вниз, и Босов, внезапно расслабившись, прилег грудью на цветы, раскинул руки и лежал, блаженно припав щекою к земле. Между тем свет шел на убыль, солнце садилось и багрово меркло, в поле серело, от кургана тянулись на восток плохо различимые тени и постепенно исчезали с потемневшей зелени. Босов поднял голову и по-мальчишески, с простодушной хитрецой спросил:
- А знаешь, почему ты не вышел ростом? У тебя была дурная привычка. Ты носил на голове вязанки Дров.
Это правда. Мы часто собирали "сплавленные", выброшенные на сухие островки дрова и ладили из них вязанки. Свою ношу, как бы она ни была тяжела, я обычно водружал на голову, находя это положение наиболее удобным. И верно, на голове я нес вдвое больше дров, чем на плечах, за весь путь ни разу не останавливался отдохнуть.
- А я возил топку на тачке. Помнишь мою тачку?
- С гнутыми колесами от плуга?
- Она меня здорово выручала. Однажды я вез хворост, застрял в болоте ни туда ни сюда. Вышел из кустов Тихон (он тогда пас стадо), помог мне вырвать тачку из грязи, угостил кукурузной лепешкой. Дал молока из бутылки. Разве такое забудешь?
Босов немного полежал, подумал о чем-то своем, затаенном, поднялся с земли и весело, мечтательно глядя по сторонам, объяснил, что вот здесь, на клеверном поле, поднимутся корпуса животноводческого комплекса. Место удобное. Близко к хутору, к реке. Рядом будет культурное пастбище с поливом.
- Тысячи голов скота... несметная орава... железобетон, трубы подомнут, стопчут все это поле, всю красоту, - сказал я. - Река, чистейшая наша река загрязнится, вон уже по воде и сейчас слоятся бензиновые пятна.
- Геологи бурят. Я их уже предупреждал. - Босов выпрямился во весь свой рост и сердито поглядел куда-то поверх меня. - Мы построим очистные сооружения.
- Жаль этого поля. Трудно представить, что его когда-то не будет, уже не пройдешься вольно, не увидишь на нем цветов. Хутор, люди поскучнеют. Если бы перенести стройку подальше, за Пятилеткин стан.
Можно?
- Тут уже спорили об этом, не ты первый. Мы подсчитали. Дороже обойдется.
- А курган... вы его не тронете?
Мы оба разом взглянули на памятник Ефиму Чичике, без слов поняли друг друга. Босов слегка смутился.
- Снесем, расчистим площадку. Конечно, тревожить сон мертвых нехорошо, даже как-то боязно, но жизнь заставляет... Да мы Ефима не обидим. Прах его под духовую музыку перенесем на кладбище, захороним на видном месте, с почестями. Народный митинг, гулянья организуем. Чтоб вспомнили люди его геройские дела... Ты не волнуйся. Это мы устроим на высшем уровне, по-хорошему. Приедешь, напишешь в газету.
- Тут, Матвей, не один прах Ефима покоится.
- Я знаю. Первые кубанские казаки лежат под курганом. Еще мать моя рассказывала, что они погибли на войне с турками.
- Да. За то, чтоб у Касаута стояла наша Марушанка.
Босов заложил руки за спину и начал медленно, прямо ходить возле меня, приминая к земле цветы подошвами кожаных туфель.
- За всю историю человечества, Федор Максимович, столько накопилось памятников и могил, что, если бы все они сохранились, живым людям давно бы негде было поместиться. Согласен? Исчезли и покрылись пылью развалины великого Вавилона и Ниневии, в тлен обратились письмена, дворцы ассирийских владык, колоссальные статуи. Рок! Высшая справедливость! А ты хочешь... эх ты!., хочешь все это удержать? - В голосе Босова пробилась насмешка.
- Не все. Хотя бы эти могилы. Горсточку пепла.
- Горсточку пепла! - Босов, продолжая ходить в той же позе, усмехнулся. - У нас на правлении о кургане была перепалка. Жалостливые тоже нашлись. Один пожилой казак, из въедливых, знаешь ли, простачков, встает, притворился святым невинным и ну потешаться надо мной. Вот, говорит, Матвей Васильевич, допустим, скончаетесь вы в свой срок, иначе никак нельзя, всему живому предел положен, помрете, и за ваши большие заслуги народ вам поставит памятник. Вы о нем сроду не заботились, скромничали, а памятничек ваш, в виде бронзовой фигуры, будет красоваться в хуторе, печалить и веселить сердце человеческое. Пройдет много, много лет, не станет детей ваших и даже правнуков, и вдруг, ни с того ни с сего, могилка ваша кому-то покажется неважной: мол, в хуторе народились герои новые и понапористей вас. И что же выйдет? Фигуру снимут и переплавят, а могилку, для нас бесценную, возьмут и сроют с землей. А нам это, пусть и мертвым, будет обидно:
неужели наш председатель был хуже ихнего? Мы тоже землю пахали! Понимаешь, чудак какой. Высказался...