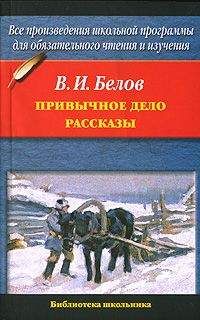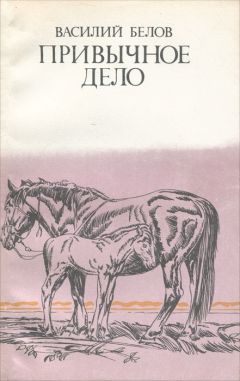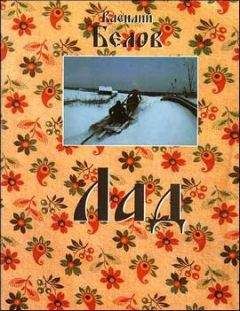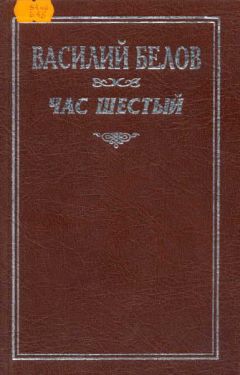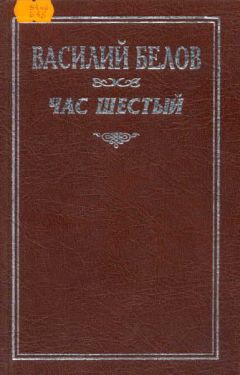В Белов - Привычное дело
- Вишь, оно как получилось, - сказал Федор. - Старый-то хозяин вздумал в прошлом году водопровод провести коровам. Ну, установили всё, эти трубы, поилки, колодец выкопали, а Мишка Петров насос и движок поставил. До этого-то доярки на себе таскали, по колодам.
Ну, а как учредили водопровод, мы колоды-то эти все и выкидали да истопили,-куда, начальство говорит, эти колоды, ежели автопоилки есть. Механизация, значит. Да.
Тпрры, дура старая! Не стоит никак, оводы, вишь.
Федор был рад поговорить с новым человеком.
- Значит, спервоначалу-то хорошо качали, Мишка вон качал, вода в колодце была, а потом хлесть, вода кончилась, одна жидкая каша, в колодце-то. Пырк-мырк - нет воды. А третьего дня председатель ко мне нагрянул.
"Бери,-говорит,-срочно лошадь, марш воду возить". Я говорю: "Куда возить-то, и бочка рассохлась, и колоды истоплены". - "Не твое, - говорит, - дело, вози в колодец". Я, конешно, поехал, мое дело маленькое, только что, думаю, за причина? Слышу, доярки судачат, что начальство едет из области. Пока начальство по тем бригадам шастало, я раз пятнадцать на реку-то огрел, полколодца воды набухал. Распряг свою хромоногую, гляжу, начальство приехало, с блакнотами по двору ходит, а Мишка движок запустил и давай мою воду из колодца качать. Ходят, нахваливают. Я, конешно дело, молчу, а про себя-то думаю да по кобыле по репице ладонью хлопаю: "Вот вы где все у меня, вот где".
Митька хохотал, сидя на траве у телеги, а довольный Федор попросил еще папироску.
- Только вот, Митрей, что антиресно. Моя кобыла-то еще зимой до того привыкла солому возить, что с закрытыми глазами по тому маршруту ходила. Идет да спит, дорогу от фермы ко скирдам как свои пять пальцев на ощупь знала. За вожжи дергать уже не надо было. Ну, а теперь-то я с ей и мучаюсь и грешу. Надо к речке ехать, а она воротит в открытое поле. Но, хромоногая, поехали!
Куда опять норовишь? Опять на старый маршрут, чистое мне с тобой наказанье. Что значит привычка для животного.
Разговор с Федором сильно развеселил Митьку он поглядел на запястье: золотые ленинградские часы, купленные с последнего рейса в Норвегию и как-то уцелевшие, показывали четверть второго. Если идти сейчас же в центр, на почту, то можно еще успеть послать телеграмму. Закадычному и верному дружку судовому электрику Гошке Ванилину.
Тот не подведет, в лепешку разобьется, а сотню достанет и пошлет телеграфом. "Ладно, успею и завтра,-решил Митька. - А пока займу у сестры или у Мишки Петрова".
Надо же было отметить приезд?
Митька так и сделал.
Он весело, в каждой избе, выкидывал трешники и козырем ходил по деревне, а бабы с восхищением ругали его: "Принес леший в самый-то сенокос, ишь харю-то отъел. Только мужиков смущает, сотона полосатой".
Впрочем, в последнем намеке на Митькину тельняшку справедливости было уже мало, тельняшка в первый же день перестала быть полосатой. Евстолья дала Митьке рубаху Ивана Африкановича. Но Митьке в общем-то было уже все равно, какая рубаха висит на его кособоких плечах.
Он то и дело посылал племянников за "горючим" в лавку, и ребятишки бегали охотно, поскольку деньги за пустые бутылки шли для них, на конфеты и пряники.
На третий день Митькиного загула пировали в избе у Мишки Петрова. Митька клонил голову на Мишкину гармонь. Он пел, осыпая пеплом папиросы гармонные мехи. И в перерывах между куплетами с горьким отчаянием растягивал губы, обнажая зубной оскал:
Течет река, течет речка, Серый камень точит...
Мишка, не зная слов, восторженно вскидывался, хотел подпеть и тут же затихал, а Пятак тоже добросовестно пытался понять Митькину песню. А Митька, с выдохом, со слезой и ни на кого не глядя, грустно пел свою песню:
Их, молодой жулик, молодой жулик Начальничка просит:
- Ты, начальничек, ты, начальничек, Отпусти до дому...
И-эх, соскучилась дорогая, Что живу в неволе.
- Отпустил бы тебя до дому, Да боюсь, не придешь, Эх, ты напейся воды холодной, Про любовь забудешь.
- Пил я воду, пил я белую, Пил не напивался, Всю-то ноченьку, ночку целую С милой целовался...
Течет речка, течет речка, Серый камень точит...
Митька вдруг резко прикрыл гармонь:
- Ладно... Не унывай, мальчики. А ты, дед, чего, а? Пей!
А мне до лампочки...
- Так он чего, - спросил Куров, - отпустил его начальник-то?
- А мне до лампочки... Кого?
- Да этого, что пел-то...
- А-а... Отпустил. - Митька, не чокаясь, сглотнул стопку. - Оне отпустят... Держи карман...
- А?
- Отпустил, говорю.
- А вот когда я в Сибири был, дак...
Никто Курова не слушал, все говорили каждый о своем, и Куров вежливо прислушался. Мишка начал рассказывать, как Иван Африканович сватал его на Нюшке и как они ночевали в Нюшкиной бане.
- Постой, а где же Африканович?-оглянулся Митька и послал какого-то племянника за Иваном Африкановичем.
Сам же отложил гармошку, распечатал очередную посудину.
Мишка взял гармонь, яростно спел частушку:
Я мальчишке хулиган, Меня не любят девушки, Только бабы небаские, Да и то за денежки.
Кроме Мишки и Митьки за столом сидели Куров да Мишкин дядя, по прозвищу Пятак, тот самый, кому когдато Иван Африканович променял Библию и который запаял самовары.
Старик Федор, как выразился Митька, уже давно скопытился и попал не на тот маршрут: одетый храпел на Мишкиной лежанке.
- А вот что я тебе, Митрей, скажу, - рассуждал Пятак, - ежели тема не сменится, дак годов через пять никого не будет в деревне, все разъедутся.
- Да вас давно надо бы всех разогнать, - сказал Митька и, как бы стреляя, указательным пальцем затыкал то в сторону Пятака, то в сторону Мишки.-Кхы-кхы! Чих!
- Это как так разогнать?
- А так. Я бы на месте начальства все деревни бензином облил, а потом спичку чиркнул.
- Антиресно! Антиресно ты, Митрей, рассуждаешь! - Пятак покачал головой. - А что бы ты, милой, жевать-то стал? Вместе с начальством твоим?
- Дак ведь от вас все равно что от душного козла, ни шерсти, ни молока.
- Так-то оно, конешно, так, - раздумчиво согласился Пятак. - Только, вишь, дело-то какое.
Он показал на репродуктор, передавали последние известия.
- С Москвой-то у нас связь хорошая. Москва-то в нашу сторону хорошо говорит. А вот бы еще такую машину придумать, чтобы в обе стороны, чтобы и нас-то в Москве тоже слышно было. Вот сам знаешь, в колхозе без коровенки нечего и думать прожить. Есть коровенка - живешь, нету коровенки-хоть матушку-репку пой. А ей, вишь, коровенке-то, сено подай кажинную зиму. Да. Я, значит, о прошлом лете поставил стожок в лесу, да и то на другой территории по договоренности с тем председателем А наши приехали да и увезли. Я, значит, в контору, я в сельсовет. Я, брат, в кулак шептать никогда не буду. До райисполкома дошел, а свой прынцып отстоял.
- Вернули сено? - спросил Митька.
- Оно, конешно, сено-то не воротили...
- Ну, а нынче как?
- Теперича я хитрей буду. Мне тот суседский председатель опять косить разрешил. Вон Иван Африканович ноне тоже в лесу покосил, тоже ему тот хозяин разрешил, только, говорю, пустая у тебя голова, Африканович.
- Почему?-спросил Митька.
- А потому, что фигуры у него не те. Надо фигуры ставить такие, как у тех стогов, которые в суседском колхозе. Оне, наши-то, и не разберутся, которые чьи фигуры, сено-то увезти и побоятся. А пошто бы так-то?
Ведь один бес, каждое лето покос в лесу остается, трава под снег уходит. Нет, не моги покосить для своей коровы - и весь протокол. Пусть трава пропадает, а не тыкайся. Я-то ладно, я накошу по суседским фигурам. А ведь у другого своя голова не сварит, вот ему-то что? Либо шестой палец вырастет, либо нож в горло своей коровенке. Нет, Митрей, толку тут не дощупаться. Иной раз баба облает, а то здоровье споткнется, ну, думаю, немного и жить осталось, леший с ней, и с жизнью-то. Может, и не доживу до коммуны. А только охота узнать, а чего варить будут?
Митька захохотал изо всей правды, по-настоящему захохотал, а в это время и зашел в избу Иван Африканович.
Только не надо было ему заходить. Это уж точно, зря, на свою беду зашел. Сначала он не пил, отказывался, отставлял стопку, но Митька зорко следил за всеми, чтобы пили и от дела не увиливали, и Иван Африканович постепенно заговорил по-другому. Уже потом, после дела, он думал, что не надо было ему терять контроль и так напиваться, но русский человек умен задним умом, и вот незаметно для себя Иван Африканович поднакачался, хоть на ногах и крепко стоял, но все же не то что трезвый.
Вскоре всей компанией, с гармонией вывалились плясать на улицу, к бревнам Ивана Африкановича. Даже хромой Куров прикостылял, хотя и с большим запозданием, когда Митька уже играл на гармони, а двоюродный Мишкин дядя, по прозвищу Пятак, плясал с Мишкой наперепляс.
- А ну-к! - Иван Африканович то и дело порывался встать и тоже идти плясать. - Ну-к я сейчас, дайте, робята, я пойду!
- Сиди, Иван Африканович, ты и плясать-то не умеешь, - сказал Мишка Петров.