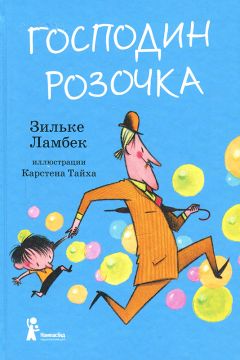Александр Герцен - Том 1. Произведения 1829-1841 годов
Вся Москва, весь этот огромный, пестрый гигант, распростертый на сорок верст, блестящий своею чешуею, вся эта необъятная, узорчатая друза кристаллов, неправильно осевшихся. Я всматривался в каждую часть города, в каждой груде камней находил знакомого, приятеля, которого давно не видал… Вот Кремль, вот Воспитательный дом, вот крыша театра, вот такая-то церковь… Осеннее солнце, «как итальянская луна», не ослепляло; полосами была Москва наводнена его светом, полосами была темна, и эти полосы перебегали: Москва, казалось, то улыбается, то браздит морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мне ярко, живо, со всей пустою шумливостью и деятельностью без цели; я почти знал, что делается вот под этой зеленой крышею большого дома, на который Москва не позволяет дунуть ветру, и под дощатым навесом этой хижины, которую Москва толкает в реку. Вспомнилась прошедшая жизнь. И святые минуты чистых восторгов, и буйные вакханалии, и немая боль скуки, и ядовитые объятия разврата – все, все виднелось мне из кирпичных масс.
Не знаю, долго ли бы простоял я тут или долго ли бы мне позволили простоять. Но раздался густой, протяжный, одинокий звук колокола с другой стороны; звук колокола заставляет трепетать; он слишком силен для человеческого уха, лишком силен для сердца; в нем есть доля угрызения совести и печальный упрек; он зовет, но не просит; он напоминает о небе, но пренебрегает землею.
Доселе я не обращал внимания на другую сторону, Москва поглотила меня. Страшный звук меди среди этой тишины заставил обернуться – все переменилось. Печальный, уединенный Симонов монастырь с черными крышами, как на гробах, с мрачными стенами, стоял на обширном поле, небольшая река тихо обвивала его, не имея сил подвинуть несколько остановившихся барок; кое-где курились огоньки, и около них лежали мужики, голодные, усталые, измокшие, и голос меди вырывался из гортани монастыря. Как не похож Симонов монастырь, заключенный со всех сторон в ограды, на Москву, раскрытую со всех сторон; в нем было столько тишины и спокойствия, столько святого и поэтического. Печален вид его, и грустен его колокол, но он знал лучшие времена, он был знаменит и славен, торжественно звал его колокол тогда; теперь, ежели б не напомнил о себе, может быть, я не заметил бы его. Старинная архитектура указывала время его славы, и он не хочет переодеться, так, как многие желают умереть в венчальном платье. Тогда ему еще нужны были стены для защиты от врага; счастливое время; на что теперь эти стены, эти башни? Враг умеет их миновать, умеет везде найти свою жертву; и не в твоих ли оградах лежит юноша, который так много жил в своей короткой жизни?? Тогда враг являлся в виде вооруженного Савла – можно было ждать обращения, теперь в виде Иуды – одна надежда на самоубийство.
Возвратившись в мою горницу, я вспомнил всю блестящую эпоху монастырей; живо представились мне эти люди с пламенной фантазиею и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном богу, которых обнаженные ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали к льдам Скандинавии. Эта жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека казалась мне высшим выражением общественности – ее нет более, и она невозможна теперь. Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме и умевшие воздвигать храмы. Великая кисть художника увековечила на стенах Ватикана торжественную минуту силы идей – раб рабов божиих отирает сандалии свои об венчанное чело Цезаря… И тут же, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретило XIX столетие религиозное направление.
Забудемте, ради бога забудемте наш век, перенесемтесь в эти времена тихого созерцания, в эти времена неба на земле[93].
IIАминь глаголю тебе, днесь со мною будеши в раи.
Лука, гл. XXIII, ст. 43.Юноша в простой одежде вышел из городских ворот Александрии и скорыми шагами пробегал Некрополис, не обращая ни малейшего внимания ни на дивные пещеры, иссеченные в камне, ни на дивные картины, покрывавшие их стены. Эта невнимательность отнюдь не происходила от одной привычки, приучающей человека без удивления смотреть на все, но от того, что он был занят какою-то мыслию, которая ревниво отталкивала весь мир. Сильные страсти боролись на его лице, мертвая бледность покрывала щеки, иногда сдеза тихо скатывалась, и он не замечал ее. Белое лицо его было чрезвычайно нежно, и, когда он отбрасывал рукою кудри, падавшие ему в глаза, его можно было принять за деву; большие черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видим в юных лицах жителей Юга и Востока, столь не похожее на мечтательность в очах северных дев; тут – небесное, там – рай и ад чувственности. Во взорах юноши проглядывал фанатизм, что-то восторженно-религиозное, принадлежащее его родине, колыбели христианского аскетизма и кенобития отшельников фиваидских, где самое умерщвление страстей превратилось в страсть. Удалившись несколько от города, юноша остановился, долго слушал исчезающий, раздробленный голос города и величественный, единый голос моря[94]…Потом, как будто укрепленный этой симфониею, остановил свой влажный взор на едва виднеющейся Александрии.
Александрия – Греция, возвратившаяся в Египет, памятник славы сына Юпитера Аммона, надгробный памятник Клеопатры, – засыпáла в золотой пыли, в тумане света и жара. Усталое солнце томно погружало лицо свое в средиземные волны, раскаляя длинную полосу на море, которое готово было вспыхнуть. Несколько забытых, опоздалых лучей солнца играли на крестах храмов христианских; Александрия была тогда поклонница Христова, придавая чистой религии его свои неоплатонические оттенки и свою мистическую теургию Прокла и Аполлония. Уже храм Сераписа, Кёльнский собор мира языческого, с своими сводами, галереями, портиками, бесчисленными колоннадами, мраморными стенами, покрытыми золотом, давно был разрушен, и колоссальная статуя Сераписа, на челе которой останавливался луч солнечный, не смея миновать его, была разбита и превращена в пепел. Но Александрия, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее наделил Динократ, прелестей, коими нарядила ее Клеопатра, наряжая себя, пышно и сладострастно смотрела на юношу, не предвидя, что скоро превратится в Искандери аравов.
Грустен был взор юноши, он говорил: «Мы расстаемся, я более не гражданин твой…» Но ему было жаль Александрии, тут он узнал жизнь, тут он любил, тут, может быть, был любим, тут… Но какое-то страшное воспоминание пролетело по лицу юноши, какое-то угрызение совести, и он, обратясь к востоку, бросился на колени, и горячие слезы раскаяния сопровождали молитву его; она была без слов, без мыслей, может быть; но она была истинна и глубока, мысли и слова отняли бы всю духовность ее, так, как они ее отнимают у музыки.
Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока, но в ней есть чувство собственного достоинства, требование награды. Дева чистая называет себя невестою Христа – невестою того, которого Соломон называл женихом церкви. Не такова молитва преступного, рыдающий, поверженный в прахе, он алчет одного прощения, его молитва раздирает его душу; в ней вся его надежда и вместе отчаяние; он чувствует свою недостойность, но чувствует и безмерную благость бога; он боится, трепещет, уничтожает себя и возрождается, живет токмо в нем, в искупителе рода человеческого. Сильна и пламенна молитва преступника, как поток каленого металла, бросаемого из огнедышащего жерла к небу; и не для грешника ли создана молитва? Праведному – гимн.
<IIа>«Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла… А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много».
Евангелие.Окончив свою молитву, юноша встал, прощальным взором поцеловал Александрию и пошел далее; темнело, и он, углубляясь в плоскую даль пустыни, едва был виден и исчез, наконец… На другой день проходил он к вечеру дикое и пустынное место и, казалось, еще не отдыхал; шаги сделались тише, дыхание тяжелее; в темноте можно было разглядеть массу еще темнейшую, которая грубо и тяжело вырезывалась на небосклоне; увидев ее, юноша собрал последние силы, удвоил шаги и вскоре подошел к каменной ограде – вороты были заперты. Несколько раз подымал он руку, чтобы постучаться в окошко привратника; но рука не поднималась, – видно было, что поступок, им предпринимаемый, слишком изменял всю жизнь его, слишком глубоким оврагом отрезывал все прошедшее от всего будущего. Раскаяние, негодование на свою слабость показались на его чертах, и он коснулся до окна, трепет пробежал по его членам; казалось, что стучат у него в сердце, и седая голова привратника два раза повторяла уже свое приветствие сонными устами и спрашивала о причине позднего прихода, прежде нежели юноша вымолвил: «Отец мой, иди к игумну, скажи, что у ворот стоит презренный грешник, что он умоляет принять его в монастырь, что он пришел обмыть ваши святые ноги и работать и трудиться». Седая голова исчезла, слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши, потом послышались тихие шаги, которые звучали по камню, потом все умерло и ничего не было слышно. Каждый шаг чувствовал юноша в своей груди – он делал его на поприще, им избранном – и мысль, к которой он давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишком сильна для его груди. Не так ли трепещет человек, ведя к алтарю свою возлюбленную?