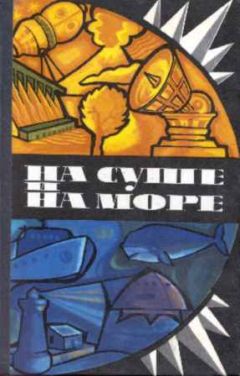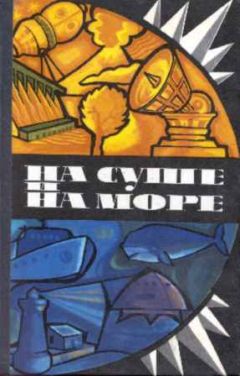Михаил Салтыков-Щедрин - Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо
— Я надеюсь, mon oncle, что вы позволите мне говорить лично от себя?
— То есть ты хочешь сказать, что все дальнейшее будет результатом твоих личных мнений?
— Да; я говорю от себя, я никого не компрометирую… Ежели я ошибаюсь, то ошибки эти будут принадлежать мне лично.
— Похвально, мой друг! говори!
Феденька с минуту помолчал и затем каким-то шипящим голосом произнес:
— Дядя, скажите, зачем ваша литература с таким упорством ищет подорвать и осмеять самые священнейшие основы нашего общества?
Я взглянул на него и изумился феномену, который в какую-нибудь минуту произошел передо мной. Лицо его, обыкновенно благодушное, слегка позеленело и смотрело сурово; глаза имели сердитое, чуть не злое выражение; губы побледнели и вздрагивали. Так велика была в этом способном молодом человеке готовность восторгаться чужими восторгами и озлобляться чужими озлоблениями.
— Что ты! Христос с тобой! — воскликнул я, несколько испуганный.
— Нет, если уж вы хотите, чтобы я говорил, то я серьезно спрашиваю вас: с какого права ваша литература так настойчиво нападает на священнейшие основы нашей жизни? В каком виде она изображает семью, собственность… государство?
— На это могу тебе ответить, что я уже достаточно говорил о праве литературы подвергать критическому исследованию все вообще вопросы жизни, и ко всему сказанному могу прибавить только одно, что «исследовать» вовсе не означает ни «подрывать», ни «нападать», ни «осмеивать», ни «представлять». Но так как ты настойчиво возвращаешься к этому предмету, то очевидно, что ты имеешь в виду именно современную русскую литературу. Ты хочешь сказать, вероятно, что литература нарочито и систематически поднимает известные вопросы, что она предвидит те волнения, которые они должны произвести в обществе, что эти волнения ей нравятся; одним словом, что не будь назойливого вмешательства литературы, ни вопросов, ни волнений, по-видимому, не существовало бы. Подумай, однако ж, нет ли тут смешения? Не приписываешь ли ты литературе то, что по праву принадлежит самому обществу или, по крайней мере, той части его, которой специяльно присвоивается это название? Я, по крайней мере, полагаю, что литература вовсе в этом случае ничего не выдумывает, а только констатирует. Не литература же разожгла аппетиты Юханцевых, Кавальчуковых и целого легиона тех, которые в государстве видят лишь пирог с даровою начинкой? Право, не литература. Эти аппетиты разожглись сами собой, вследствие наплыва целой массы праздных людей, оставшихся за бортом с упразднением крепостного права. Конечно, литература заметила этот факт, но разве она имела право пропустить его? — Нет, не имела права, потому что иначе она должна была бы навсегда остаться при анекдотах о пошехонцах. И скажу тебе прямо: ежели литература изображает семью расшатанною, собственность поруганною, идею государства эксплуатируемою всевозможными пройдохами, то этим она не только не подрывает подрытого, но, напротив, пробуждает общественную совесть. И что же это за принципы, которые всякий ежели не прямо преступает, то, по крайней мере, обходит, насколько возможно? Правда, что общество лицемерно и посмеивается над принципами «потихоньку», но разве одним лицемерием общество может жить? Вот этого-то права лицемерить и не признает литература за обществом. Она говорит обществу: или держись унаследованных тобою принципов, или сознайся в своей несостоятельности. И что до меня, то я в этих обличениях <вижу> начало охранительное, а отнюдь не разрушительное, и ежели сетую по временам на нашу литературу, то отнюдь не за смелость и настойчивость ее обличений, а, напротив, за то, что она робка, неустойчива и отнюдь-отнюдь не влиятельна. Помилуй! один езоповский язык чего стоит! Понимаешь ли ты, как это трудно, изнурительно, даже погано? В состоянии ли ты это понять?
— Могу, дядя, и, признаюсь, не печалюсь об этом. Я готов бы был, однако ж, согласиться с вашими оправдательными доводами, если б дело шло только о логике идей. Но, кроме нее, есть еще логика фактов, и вот она-то заставляет меня быть осмотрительным. Я понимаю вашу защиту, но в то же время чувствую, что в ней чего-то недостает, что она не вполне искрения и что-то скрывает. Не так ли, mon oncle?
— Может быть, друг мой. Во всяком случае, значит, мы оба остаемся каждый при своих показаниях. Что бы я ни говорил, ты охотно призна́ешь справедливость моих доводов, но внутренно будешь «чувствовать», что в них чего-то недостает! Отлично. Стало быть, обвинение первое: колебание основ — остается в своей силе. Дальше?
— Дальше, mon oncle, это направление и подбор статей. Разверните любую книжку журнала, любой газетный листок — и вы увидите, что все, от первой строки до последней, все бьет в одну точку, все твердит об одном и том же.
— А тебе хотелось бы литературного косоглазия?
— Charmant, mon oncle![141]
— Послушай! Я очень хорошо понимаю, об какой ты точке говоришь, а так как я только что сейчас бесплодно возражал против этого обвинения, то и не считаю нужным повторяться. Ведь не на ту же точку ты негодуешь, в которую бьет, например, господин Цитович?
— Конечно, не на ту. А что ни говорите о Цитовиче, дядя, это человек, который выказал действительное мужество.
— Не знаю, мой друг. Быть может, я сужу легкомысленно, но когда я читал последние брошюры господина Цитовича, мне почему-то представлялось, что он пишет их от имени человека, который ужасно любит засиживаться в ретирадных местах. Другие посещают эти места лишь по необходимости, а он любит зайти, чтоб посидеть, а может быть, и на стенах что-нибудь подходящее написать.
— Charmant! Charmant! Charmant! Но не будемте уклоняться в сторону и возвратимся к направлению. Вы, конечно, уже отчасти возразили на это обвинение; но не совсем, однако ж, mon oncle, не совсем!
— Чего же тебе, собственно, надобно?
— Я настаиваю на подборе статей. Зачем это? Почему бы не разнообразить предлагаемого публике чтения? Почему бы рядом с статьей, трактующей об явлениях неутешительных, не поместить другой, которая изображает оборотную сторону медали? зачем забивать мысль читателя одними будничными перспективами? зачем не освежать ее беседою о предметах возвышенных, вызывающих в человеке парение, а не пригибающих его к земле да к земле?
— Да просто затем, что у всякого времени есть своя задача и свои способы для выражения этой задачи. Ведь и Цитович не бог знает о каких возвышенных предметах говорит, когда извещает публику, что мать, на известном жаргоне, называется «мокрою квартирой на девять месяцев», однако ж, ты одобряешь его?
— Одобряю, потому что знаю, что это высказано под наплывом негодования. Как хотите, mon oncle, a это очень удачно сказано. И ежели Цитович это изобрел, то я понимаю, как должно было играть его сердце, когда эта пакость, так сказать, вдруг снизошла на него. Но литература или, лучше сказать, журналистика наша — это совсем другое дело. С ее стороны, это система, это — предвзятое…
— Да, пойми же, ради Христа, ведь журналы и газеты издают тоже люди, а не типографские станки. Эти люди сходятся не затем, чтоб горланить всякий случайный вздор, но затем, чтобы высказать что-нибудь небесполезное. Они условливаются между собой, и только тогда, когда убеждаются в солидарности взглядов на предстоящее дело, только тогда решаются приступить к нему сообща. Их много, но, в сущности, все они составляют одного человека. Пойми же, как трудно этому собирательному человеку начинать за здравие и кончать за упокой. Тут не предвзятость совсем, а просто естественное положение вещей, которого, даже в угоду тебе, изменить нельзя. Да, наконец, и в этом отношении разве мало уступок? разве мало розанов насаждают даже те из наших журналов и газет, которые всего менее пристрастны к розанам? Да и переводятся нынче эти розаны и па́хнут как-то совсем не так.
— Это не ответ, mon oncle. И розы, и соловьи, и небо — все это есть, и все это мы видим, и слышим, и обоняем, и всем наслаждаемся. Только литература наша считает долгом игнорировать эти возвышающие дух картины и заменять их холодным перечислением язв. Как хотите, а это заговор! Заговор и есть!
Разумеется, не тот, который именуется в законе преступлением, а тот, который испокон веков разлит в воздухе и, говоря по правде, никогда не прекращался. Это заговор, в котором принимает участие не одна литература, а всё и вся. Значит, язвы настолько обострились, что никому не дают ни отдыха, ни срока, значит, не только писать, но и думать ни о чем больше нельзя, значит, до тех пор, пока будут существовать язвы, будет существовать и заговор. Ты думаешь, что у Бореля, Донона, Дюссо нет заговорщиков? что ты и твои сверстники, люди несомненно надежные, только едите и пьете, а не конферируете? Ошибаешься, друг мой! Ручаюсь, что не проходит и десяти минут без того, чтоб ты не почувствовал себя неловко, и совсем не потому, чтобы тебе вспомнилось о соловьях и розах, а именно потому, что там, среди ресторанных татар, в виду улыбающегося соммелье́, тебя все-таки настигают язвы. Стало быть, и вы участвуете в заговоре, участвуете тем, что помышляете о предмете его. Вам неприятен этот предмет, вы желаете отогнать его, но он тут и не отстает от вас. Он не оставляет в покое никого — как же ты хочешь, чтоб от него отвернулась литература, для которой исследование явлений жизни составляет conditio sine qua non[142] существования? Ты скажешь, конечно, что бывали же в русской литературе и розы и соловьи… бывали, мой друг, все в свое время было! Но теперь ты не найдешь двух литераторов, которые решились бы беседовать о соловьях и розах; даже те, которые некогда пели об этом, — и те ныне пускают шип по-змеиному. Ужели это нарочно делается, чтоб досадить тебе или тем, чьих мнений ты служишь эхом? Ведь со стороны журналов было бы не только не политично, но даже и глупо не поступиться хоть несколькими печатными листами в год, в пользу роз и соловьев, чтобы водворить мир в взволнованных сердцах! Но, во-первых, писателей таких нет, а во-вторых, и читателя для соловьев и роз едва ли сыщешь.