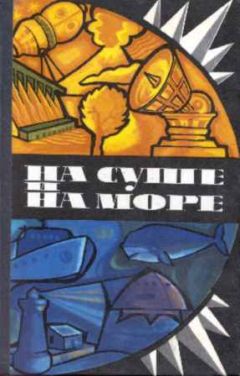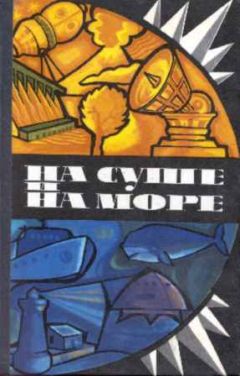Михаил Салтыков-Щедрин - Том 13. Господа Головлевы. Убежище Монрепо
— Дядя! но ведь эти заблуждения не остаются в недрах литературы, они переходят из нее в общество, волнуют его, и в этом-то именно — ведь все очень хорошо понимают, что только в этом — заключается опасность. Постепенность и своевременность в постановке вопросов мира духовного — вот цель, которую имеет в виду мудрость, а совсем не насильственное прекращение их.
— И на это тебе ответ: ошибочно думают те, которые возлагают на литературу обязанность иметь полицейский надзор за теми последствиями, которые могут иметь место как процесс ее работ, так и окончательные их выводы. Все осязаемое и предполагаемое, доказанное и гадательное — вот задача, которая предлежит литературе, и она разработывает эту задачу, потому что это ее право, а затем совершенно не знает, что из добытых ею результатов будет взято обществом и что отвергнуто. Ежели общество злоупотребляет этими результатами, то прекращение этих злоупотреблений зависит от установленной власти, а не от литературы, которая не имеет полномочий ни разрешать, ни запрещать. Во всяком случае, литература тут в стороне, и считать ее солидарною с временными общественными неурядицами и вследствие этого призывать на скамью подсудимых — значит не только допускать величайшую несправедливость, но и останавливать всякое развитие жизни. Да и неурядицы, о которых идет речь, — не слишком ли преувеличивают их значение? Общество, конечно, способно увлекаться, и бывают минуты, когда эти увлечения самым нежелательным образом обостряются, но это далеко не исчерпывает всех функций общественной жизни. Напротив, видя неперестающее развитие форм общественной жизни, выражающееся и в смягчении нравов, и в большей доступности тех благ, которые когда-то считались заповедными, имеется полнейшее основание предположить, что истины усваиваются обществом гораздо охотнее, нежели заблуждения. Ведь не инквизиторы одержали победу, а Галилей, не ветхозаветное рабство легло в основании истории человечества, а новозаветная свобода. Стало быть, и на общество тоже много клевещут. А что касается до пресловутой своевременности, то позволь тебе сказать, что это термин чисто административный, и литература не имеет никакого права принимать его в расчет. Помилуй! ежели возложить на нее обязанность следить за своевременностью или несвоевременностью, то одно определение этих терминов, в соображении с целой массой самых разнообразных условий, возьмет столько времени, что всякое дальнейшее движение в разработке истинных, насущнейших задач должно будет остановиться и закоснеть.
Я замолчал. Все до сих пор высказанное мною о праве литературы на безответственность и неприкосновенность казалось мне до такой степени ясным и непререкаемым, что, признаюсь, мне даже неприятно было бы услышать со стороны Феденьки какое-нибудь возражение из сферы пресечений и предупреждений. Я страстно и исключительно предан литературе; я признаю ее всецело, со всеми усложнениями и уклонениями, даже с московскими кликушами. Порою эти усложнения бывают очень мучительны, почти нестерпимы, но они пройдут, исчезнут, растают, и только усилия честной мысли останутся незыблемыми — таково мое глубокое убеждение. Не будь у меня этого убеждения, этой веры в литературу, мне было бы больно жить. Я до того сжился с представлением, что литература есть единственное убежище, где мысль человеческая, даже заблуждающаяся, может оставаться честною, незапятнанною, что всякое вторжение в эту сферу казалось мне жестоким и ничем не оправдываемым. Лично я всем обязан литературе, всеми лучшими минутами в жизни, всеми утешениями и совершенно искренно вижу в ней единственное благо, которое мне было дано испытать в жизни. Да и не я один, но всякий, кто сознает себя человеком, в то же время понимает, что вне литературы нет блага, нет утешения, нет жизни. Даже комиссия на случай могущего быть светопреставления, по-видимому, знает это, потому что она прежде всего предположила открыть это торжество гимном. Она полагала, что, благодаря гимну, разом смягчатся чересчур суровые тоны торжества, и — кто же знает? — быть может, и самого светопреставления не будет.
Кажется, и Феденька заметил охватившее меня волнение и тоже молчал. Это была с его стороны деликатность, за которую я очень ему был благодарен. Вообще этот малый отнюдь не страшен. Он строг, покуда заседает в комиссиях, но в частных отношениях даже приятен.
— Я понимаю, что вы не можете говорить иначе, дядя, — наконец произнес он, — и потому не берусь даже возражать вам. Но я вижу одно неудобство в нашей беседе: вы слишком абстрактно ставите вопрос, тогда как, при настоящих условиях жизни, он стоит гораздо проще и осязательнее. Те отзывы о литературе, которыми вы интересуетесь, совсем не имеют в виду Галилеев, Байронов, Шиллеров, а нашу обиходную, будничную литературу, которая занимается совсем не мировыми вопросами, а обыкновеннейшею злобою дня.
— Но ведь тут разница только в размерах, голубчик. Положим, что современная наша литература не особенно высоко стоит, но, во-первых, тут встречается вопрос, отчего уровень ее так низок, а во-вторых, как бы ни была она малоплодотворна, все-таки она на целую голову выше всего остального.
— Это ваше мнение, mon oncle, — мнение очень понятное, потому что вы сами всецело принадлежите литературе, но есть люди, и при том очень компетентные, которые смотрят на подобные мнения, как на преувеличение. Литература наша не оригинальна, не серьезна и не самостоятельна: она даже существованием своим обязана воздействию. Она может увлекаться не действительными потребностями времени и места, но просто эффектностью известных положений и восприимчивостью своего темперамента. Вот эта-то склонность к увлечениям и наводит на мысль о необходимости известных руководительных начал.
— Руководительных начал… в каком смысле? В том ли, чтоб помочь литературе сделаться оригинальною, серьезною и самостоятельною? Или наоборот?
— Нет… то есть, конечно… Разумеется, в результате все это придет… Но, с другой стороны, все это придет вооруженное опытом, очищенное от преувеличений, и тогда…
— И тогда, и всегда, и ныне, и во веки веков будут указывать на преувеличения. Всегда будут предостерегать от преувеличений и указывать на вотяцкую мудрость, как на идеал. Известно, что у вотяков даже песен нет. Едет вотяк, видит забор — поет: забор, забор, забор, до тех пор, пока не увидит поля, — тогда начинает петь: поле, поле, поле, и так без конца. Вот это не преувеличенье, а настоящая и желательная мудрость. Не гляди ни вперед, ни назад, ни в сторону, а воспевай те предметы, которые встречаются на пути. Ну, что ж? отлично!
— И это, mon oncle, опять-таки преувеличение. Напротив, всякий охотно допускает, что литература может даже оказывать помощь, но именно помощь, а не противодействие. Вот это-то и необходимо различать.
— То есть нужно писать дифирамбы и не допускать критики?
— Ах, mon oncle!
Очевидно, это был порочный круг. И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна «известная» самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть нужна «известная» критика. Положим, что Феденька молод и не особенно искусен в диалектике; но ведь он везде бывает, слышит всякие разговоры, — что-нибудь да прилипает к нему. Если он говорит не последовательно, а обрывками — стало быть, и разговоры, которые он слышит, тоже ведутся не последовательно, а обрывками. Существуют люди, которые могут гудеть по целым часам, и все-таки в этом гудении ничего не уловишь, кроме обрывков. Феденька слушает все эти гудения, и обрывки оных запечатлеваются в его памяти. Перед ним не церемонятся, выкладывают все впусте лежащее, потому что он «адепт». И он со временем будет гудеть, и все его сверстники и соратники в деле составления карьер. Кто кого перегудит, тот и возвеличится. Не любовь к стране, не желание ей добра, не знание ее потребностей будет составлять содержание этих гудений, а именно нечто впусте лежащее, к чему, ради пряности, по воле рока, имеет быть пристегиваема злосчастная русская литература.
Ввиду всего этого я понял, что на почве обобщений оставаться было нельзя. Феденька слишком конкретен, слишком канцелярски мудр, чтоб идти дальше непосредственных результатов и чувствовать какую-либо иную потребность, кроме потребности мероприятий. Поэтому я решился уступить ему.
— Прекрасно, пусть будет так, что все мною высказанное, не что иное, как преувеличение, — сказал я, — будем же говорить прямо, в чем заключаются обвинения, взводимые на литературу?
— Я надеюсь, mon oncle, что вы позволите мне говорить лично от себя?
— То есть ты хочешь сказать, что все дальнейшее будет результатом твоих личных мнений?
— Да; я говорю от себя, я никого не компрометирую… Ежели я ошибаюсь, то ошибки эти будут принадлежать мне лично.
— Похвально, мой друг! говори!