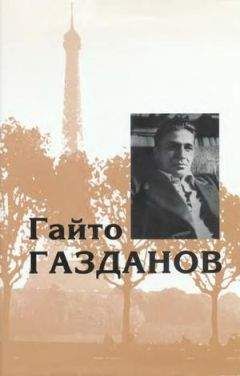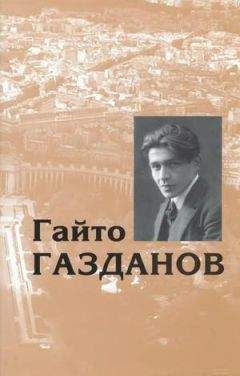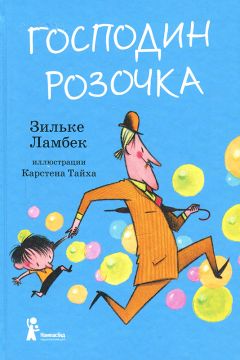Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
Я бы хотел написать об Анатолии Аполлоновиче самые верные, самые лучшие слова, которые я знаю. Я хочу надеяться, что он знал всегда, до последних дней своей жизни, что наша благодарность ему и наша преданность его памяти неизменны – что бы ни случилось, где бы мы ни были; потому что, будучи его верным учеником, я полагаю, лучшее, что есть в человеке, – сделано из не погибающей и в каком-то смысле, быть может, бессмертной материи: и сквозь много лет поминутных, настойчивых опровержений этой гордой истины, я верю в нее так же твердо, как тогда, в Константинополе, как нас учил ей Ан<атолий> Ап<оллонович>.
Рецензии и заметки*
Илья Эренбург. Виза времени*
В издательстве «Петрополис» опять вышла книга Ильи Эренбурга, которому несомненно следует отдать пальму первенства в смысле количества выпускаемых романов, рассказов и других произведений литературного порядка. Пожалуй, в истории русской литературы с Эренбургом могли бы в свое время потягаться только Немирович-Данченко и Боборыкин. Среди современных же писателей никто не может даже приблизиться к количеству эренбурговской «продукции». Это объясняется тем, что Эренбург, в сущности, меньше всего писатель и уж никак не беллетрист. Он – журналист, если хотите репортер с небольшим запасом идейного баланса, но к настоящей литературе он непосредственного отношения не имеет, – да, кажется, и не претендует на это. И если к «Визе времени» предъявлять требования журнального порядка, то она окажется книгой, не лишенной некоторого интереса.
Это очень «случайная» книга, трактующая о самых различных вопросах: горах Грузии, искусстве поствоенной Германии, и, конечно, многократно о Париже, о Польше и обо всем, чем угодно, вплоть до политического устройства Турции. Она не связана никаким философским единством – да оно и понятно; это было бы слишком обременительной и недоступной Эренбургу роскошью. Есть в книге и неизбежная эренбурговская «железная нежность пролетарских мускулов» и прочие вещи того же порядка, которые он по ошибке все помещает в свои книги, забывая, что теперь не 1920-й год. Но даже и это не очень раздражает, нельзя требовать от Эренбурга, чтобы он писал, как Максим Горький.
Не всегда приятна неизменная любовь Эренбурга к вопросам пера, но это по-видимому неизлечимо, и тем более грустно, что обо всем этом Эренбург рассуждает очень храбро и наивно – с тем налетом советского примитивизма, который, может быть, очень хорош и даже «неблагонамерен» в России, но уж слишком провинциален за границей.
Несомненный талант – только не литературный, конечно; в этом не следует заблуждаться – и ум Эренбурга служит ему для грошовой литературы: в самом начале его литературной карьеры – «Лик войны» – мы могли, казалось, рассчитывать на лучшие результаты: теперь же это, мне думается, непоправимо. Очень сокрушаться об этом не стоит; нельзя сказать, чтобы в лице Эренбурга мы потеряли возможного Толстого; но и злорадствовать причин нет, так как Эренбург все-таки честный и умный человек и не без некоторой склонности к прекрасным искусствам.
Следует, пожалуй, еще отметить небрежность языка: стилистом Эренбург никогда не был; правда, и русскую речь не пытался реформировать, язык у него, конечно, не бунинский, но все-таки писать «я хотел запросто намерить ботинки» как-то уж очень неловко, а неподготовленный читатель может и вовсе не понять, в чем дело.
Кто-то, что ли Шкловский, в свое время очень верно сказал: после «Лика войны» Эренбург написал еще «Хулио Хуренито». Все остальное – это вариации «Хулио Хуренито». Ко всем читателям Эренбургу следовало бы обратиться с просьбой: пожалуйста, читайте «Хулио Хуренито». Кроме этой книги, Эренбург ничего не написал.
<1930?>
Анатолий Мариенгоф. Бритый человек*
Две последние книги Мариенгофа, «Циники» и «Бритый человек», имели средний успех скандального порядка. За «Циников» сам Мариенгоф лицемерно упрекал себя в непонимании советской действительности и публично каялся в своих грехах. До «Бритого человека» очередь пока еще не дошла. Обе эти книги очень похожи друг на друга и, пожалуй, равноценные, если это слово можно употребить здесь даже в самом относительном смысле – в чем есть все основания сомневаться. Книги Мариенгофа плохи не только потому, что они щеголевато-циничны; это цинизм не страшный, пензенского происхождения и местного характера. Хуже то, что они малограмотны и беспомощны. Этот наивный человек пишет: «Его голова лежала у меня на груди и тупо не понимала тюремной азбуки сердца, выстукивающего трагические ругательства». Или: «Дерево, гнедое, как лошадь, ничего, вероятно, не имело против. Собака с плакучим хвостом придорожной ивы не сквернословила».
О литературе Мариенгоф имеет понятия чрезвычайно приблизительные, что, впрочем, естественно: не в пензенской гимназии этому научиться. Он, правда, цитирует Сковороду, что производит необыкновенно странное впечатление – вроде того, как если бы какой-нибудь хуторской донжуан стал бы играть Моцарта на балалайке – вместо родного «Яблочка» или «Кирпичиков».
Но я охотно допускаю, что книги Мариенгофа должны считаться очень неплохими и передовыми где-нибудь в обществе уездных эстетов – не знаю, достаточна ли такая слава. Самое любопытное, однако, это то, что ни «Циники», ни «Бритый человек» не оригинальны. У Мариенгофа был более блистательный предшественник, писавший в таком же роде; мне кажется несомненным, что Мариенгоф черпал свое «вдохновение» именно там, и, будучи очарован этим «искусством», почувствовал невозможность писать иначе. Имя этого писателя, который был несравненно талантливее и, главное, грамотнее Мариенгофа, – Ветлутин. Теперь о нем мало кто помнит, но несколько лет тому назад его «Записки мерзавца» имели успех более шумный и более заслуженный, нежели «Бритый человек». Правда, вряд ли кому-нибудь в голову приходила мысль, что Ветлутину можно подражать. Оказывается, можно. Я не удивлюсь, если когда-нибудь мне попадется в руки книга, написанная под сильным влиянием Брешко-Брешковского; после Мариенгофа следует быть ко всему готовым.
Говорить о том, что книгу Мариенгофа нельзя рассматривать как литературное произведение, кажется, не нужно. Думаю, что критики о ней спорить не будут – и «молодое поколение» зачитываться «Бритым человеком» тоже не станет. Остается констатировать лишний раз, насколько у людей различны вкусы: один любит описания природы, другой – человеческих чувств, третий – охоты, четвертый – великосветских салонов. Мариенгоф значительно скромнее: его, по преимуществу, занимает уборная. Это довольно странно, но в конце концов законно: каждому свое.
В заслугу Мариенгофу следует поставить то, что книги он пишет довольно короткие. Правда, когда он писал «имажинистические» стихи (оттуда же и злополучная собака с плакучим хвостом) в «Гостинице для путешествующих в прекрасном», это было еще лучше. Но, к сожалению, те времена прошли.
Алексей Толстой. Петр Первый*
Вышла первая часть большого исторического романа Алексея Толстого «Петр Первый», печатавшаяся раньше в «Новом мире». Несмотря на то, что роман еще не окончен и окончательная оценка его может быть произнесена только после опубликования второй части – уже и сейчас можно не сомневаться, что «Петр Первый» будет одним из лучших исторических романов о русской литературе.
Только необыкновенный талант Толстого позволяет ему вести длиннейший рассказ таким не эпическим стилем, который у всякого другого автора вышел бы утомительным и скучным, как это бывало, когда за исторические темы, довольно модные в российской литературе, брались другие писатели средних способностей. Толстой – исключение; то, что не позволено другим, позволено ему. У нас есть, пожалуй, основания сомневаться в исторической бесспорности Петра Первого; да и тот образ, который рисует Толстой, – мальчика Петра, несколько боязливого, дикого и не очень умного, плохо вяжется с обычными представлениями о нем. Академик Платонов как-то очень резко и насмешливо писал об исторических вещах Толстого, в частности о рассказе «День Петра», и надо полагать, что имел на это полное право. Но исторические неточности портят только плохие романы – читая же Толстого, об историческом соответствии забываешь.
Недостатки «Петра Первого» – недостатки самого Толстого и всего его обильного творчества. Этот исключительно одаренный человек, прекрасный рассказчик, никогда не становящийся скучным и во всем одинаково интересный – вплоть до «Аэлиты» или даже «Гиперболоида инженера Гарина» – лишен, однако, тех качеств, которые могли бы сделать его имя мировым. Толстой – самый лучший из второстепенных писателей. Конечно, он намного выше почти всех современных писателей в России; конечно, и в иностранной литературе мало найдется людей, которые могли бы с ним сравниться. Но ему не дано в своих вещах доходить до конца и приближаться вплотную к той границе, за которой начинается мировое значение искусства; а таланта на это у него хватило бы.