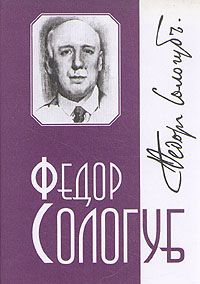Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
– Да, потом мы будем жить вместе. Всегда вместе, всю жизнь до самой смерти. И умрем вместе.
– Потерпи, Шанечка, уж как-нибудь потерпи, – говорит Дуня. Она ласкает Шаню, – целует, волосы гладит.
– Как много надо лишнего жить! – говорит Шаня тоскливо. – Вот-то, все эти годы несносные взяла бы да и бросила к черту в пасть! На что мне они!
– Повенчаетесь, – утешает Дуня. – Страшно шикарная свадьба будет!
Покраснела Шаня, – досадно ей на то, что от каких-то чужих людей зависит признанность ее счастия. Она говорит гневно:
– Какие досадные попы! Везде суются. А какое им дело!
Пошли в церковь вдвоем, Шаня и Дуня. Федосья Ивановна ушла раньше. Девочки торопились.
Дунечка высматривала кого-то на улице.
Издали от церкви веселые звоны несутся, вблизи становится скучно. Опять будет то же, – на клиросе смешной дьячок, под клиросом надутые спесью уездные господа начальники и важные их дамы, неуклюжие в своих нарядных, но все же некрасивых платьях. Только певчие споют хорошо, и будет несколько минут восторга и молитвы.
По дороге девочки встретили гимназиста Томицкого. Он – очень милый, высокий, веселый, простой, деятельный. Все товарищи говорят, что у него сильный характер и что он очень честен. По его милому лицу с ясными глазами и с благородным очерком лба видно, что товарищи не ошибаются. В него влюблялись гимназисточки не раз, влюбилась и Дунечка, и он любит ее преданно и верно, раз навсегда, как истинный рыцарь. Он ей не изменит и ее любви верит.
Встретились и шумно радостны. Радуются своей любви. Шаня смотрит на них покровительственно и снисходительно. Они оба такие юные, наивные, чистые. Но Шаня думает, что уж очень они просты.
В домовой гимназической церкви тревожно и уже не скучно Шане. Стоят милые подружки. Много знакомых гимназистов. И каждый чем-нибудь напоминает Женю. Но Шаня ни на кого не смотрит, молится за Женю. За других молятся священник и дьякон, – а Шанечка теми же словами за Женю молится.
Шаня старается как можно яснее представить себе Женю, вызвать его образ. Напрягает воображение – и видит Женю на один краткий миг. Быстро становится на колени и кланяется Жене.
Краткая минута восторга отгорела. Шаня поднимается и осматривается кругом. Видит, – все как всегда. Гимназисты и гимназистки переглядываются, перешептываются. Тут же учителя, классные дамы. Все больше мумии несносные. Шанечка их не любит, и они ее, – взаимная неприязнь между живою душою и мертвыми душами.
Запели опять, – разнежили сердце. И вдруг, как ветер, веющий из Эдема, приникла к сердцу молитва, пламенная, – и все забылось, – скучные лица обставших и темные стены, и милый засиял лик. Плачет Шаня и молится. В дымном ладане видится ей Женино лицо. Так рыдает Шаня, что ее унимает Дунечка.
Вышел дьякон. Читает Евангелие. Шаня вслушивается, припоминает Женины слова. Мятежные мысли зажигаются в ней, и ей страшно.
«Грешница, грешница!» – думает она о себе и кается.
Глава четырнадцатая
Вышли из церкви. После дымного ладана воздух сладостно душист, и так молодо, вешним зеленоватым пухом, оживают деревья и кусты.
К девочкам подошли Гарволин и Томицкий. Шаня вздохнула, – подходил прежде и Хмаров.
– В такие дни хорошо любить, – весело говорит Томицкий и нежно смотрит на Дунечку.
Дунечка смеется и краснеет.
Разговор, когда коснется любви, становится Шане интересным. Иные разговоры скучны. И она сама не замечает, как заговаривает о Жене. Томицкий смотрит на нее с ласковым упреком, словно жалеет ее, и говорит:
– Охота вам, Шанечка, думать о Хмарове! Он – самый пошлый фатишка.
Шаня покраснела, засверкала глазами.
– Неправда, неправда! – страстно заговорила она. – Зачем вы так про него говорите! Вы его, наверное, совсем не знали.
Томицкий сказал уклончиво:
– Да, я его правда мало знал. Надо пуд соли с человеком съесть, чтобы его узнать, а где ж мне, Шанечка? я соли не люблю.
Томицкий ласково заглядывает в Шанины глаза и пожимает ее руку. Шаня уже не сердится на него, но ей грустно. Она прощается с Дунею и с Томицким и говорит Гарволину:
– Проводи меня, Володя.
Володя рад идти с нею. Они идут по набережной.
Какая прелесть – ранняя весна! Только что река вскрылась, и струйки так блестят и звенят, – и все, все на земле так свежо, так первоначально. Во всем на земле разлита радость, и смешана с радостью странная грусть.
Гарволин опять уговаривает Шаню забыть Евгения. Да где там!
– Забудь ты его! Не станет он тебя долго помнить. Полюбит другую.
Засверкала Шанечка глазами. Страстно заговорила:
– Никогда не разлюблю его! Никогда, никогда! Пусть он даже меня бросит, я его все-таки не разлюблю, никогда, никогда. Никого никогда не полюблю другого.
Она повторяла эти слова тихо и мечтательно. Но в тихости и разнеженное™ ее голоса чувствовалось то женское упрямство, которое не сламывается ничем.
И краснеет Шаня. И глаза ее горят.
Гарволин понял, что это – правда. Он грустно и долго вгляделся в Шанины глаза. И Шаня смотрела на него, не отводя взора. В Шаниных глазах горел мрачный огонь тайны и восторга. Гарволин вздохнул. Покраснел. Тихо сказал дрогнувшим голосом:
– Шанечка, ты несправедлива!
Шанечка тряхнула косами и задорно крикнула:
– Вот еще! Кому-то она нужна, эта справедливость!
– А как же! Нельзя жить без справедливости, – сказал Гарволин.
Какой-то темный страх звучал в его голосе, словно в ответ на его слова кто-то равнодушный говорил ему беззвучно, но внятно:
– Нельзя, так и не надо. И не живи.
А Шаня говорила глубоким, странно-звучным от восторга голосом:
– Что там справедливость! Смотри-ка, – небо синее, воздух сладкий, в небе ласточки летают, в земле кроты роются… Да уж не умею тебе сказать, а только все длинные слова – глупость.
– Несбыточны твои мечты, Шаня! – сказал Гарволин. – Будет он тебя помнить столько лет!
– Несбыточны! Вот испугал-то! – с пылким задором крикнула Шаня. – Сбыточное-то мне и здесь надоело, – сбыточного-то мне и даром не надо. Знаешь, – мечтательно проговорила она, – бывает несбыточное! А если и не бывало раньше, так пусть для меня будет!
Шаня призадумалась. Потом решительно сказала:
– Все будет по-моему. Как захочу, так и будет. Он меня не возьмет, – я его возьму.
– Возьмешь! – уныло возразил Гарволин.
– Возьму, я сильная! Только очень захотеть надо, – и чтобы это не было глупость, как я раз о розетке молилась.
Шаня засмеялась.
– Я тебе не рассказывала? Вот смех-то! Гарволин уныло молчал.
– Я розетку, шаля, разбила и боялась, что бить будут. Вот и стала молиться. Уж как я молилась, чтобы она срослась! Да только не вышло. Не было чуда. Как на грех, отец злой пришел, – узнал, отстегал.
Гарволин оживился.
– Не было чуда, говоришь?
– Да ведь глупость была, – весело сказала Шаня.
– А ты верила? – спрашивал Гарволин. – Сильно верила? И все-таки чуда не было?
Он жадно смотрел в Шанины глаза. Видно было, что ее рассказ о розетке странно волнует его. А Шаня мечтательно смотрела вдаль и говорила:
– Я в Женю верю, в Женечку моего.
Гарволин давно уже понял, что Шаня может говорить только о Жене. Когда он приходил к ней, говорили только о нем. И теперь упал разговор о несбывшемся чуде, – Шаня думала о Жене, говорила о нем.
Вдруг ей совестно стало: поняла, что этим разговором она мучит Гарволина. Но ничего, он не рассердится, он – милый. Забыв минутное ощущение неловкости, Шаня сказала с восторгом:
– Надобно влюбиться! Только в этом счастье и правда жизни, – влюбиться!
Гарволин сказал с досадою:
– Мерзкое слово! Надо любить, жертвовать. Шаня улыбалась и повторяла настойчиво:
– Влюбиться. Втюриться. Так всей и влезть в него, и овладеть, и не отпускать.
– Зачем? – сурово спросил Гарволин.
– Как зачем? Как ты этого не понимаешь? Ну если ты один, ну это хорошо, положим, – вот, и река, и жаворонки, и поле, и пахнет так. Так бы вся и вникла в землю. Ну так что же? Так и умереть? Пойми, один – это умереть. Два – жить. Глаза в глаза, и сказать друг другу самое последнее.
Шаня побледнела, замерла от восторга, замолчала. Как Шаня, бледнея, Гарволин бормотал:
– Это стыдно.
– Ах, Володя, ничего ты не понимаешь. Сахарная у тебя душа! Знаешь, иногда мне так хочется его видеть, так хочется, – сказать нельзя! Ну и вот, знаешь, иногда он вдруг проходит мимо. Не он сам, а голубое, – понимаешь? Все тело голубое. А всмотришься, – и нет ничего. Такая досада!
Гарволин слушал уныло. Шаня смутилась, замолчала опять. Больше им не о чем говорить. Молчанием все сказано. Обоим неловко. Шаня торопливо простилась с Гарволиным и убежала. Опять одна. Что-то подхватывает и несет.