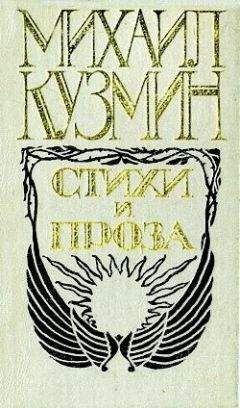Герай Фазли - Ночное солнце
- У нас другого пути нет, профессор. Надо всегда вместе.
- И еще, девочка... любовь - самое великое чудо человеческого сердца. Еще никто не разгадал его тайну. Правильно я говорю, товарищ капитан?
- Правильно, Герман Степанович, как говорил Низами Гянджеви:
Если на поле брани
Выйдет с мечом любовь,
Оседлав саврасого коня, победа
Выйдет навстречу.
- О, товарищ капитан, я вижу, вы хорошо знаете Низами.
- Профессор, пусть вас не удивляет военная форма Сергея Марковича, вмешался в разговор Искендер. - Сергей Маркович душой художник, как и вы. Исследует творчество Низами Гянджеви.
- Значит, низамивед...
- Да, его отозвали с фронта, чтобы...
- С фронта? - нетерпеливо прервал Искендера Зуберман. - Какого?
- Здесь же, в родном доме, - почему-то смущаясь, произнес Данилов. Вблизи Пулкова...
- Там идут тяжелые бои... - вдруг нахмурившись, медленно выговорил профессор. - Пулковский меридиан... он проходит у ворот Ленинграда... Голос профессора задрожал. - Нет, нет, пулковский меридиан проходит прямо по нашим сердцам. Не так ли, товарищ капитан?.. Правильно я говорю, Саша?
Беспокойные глаза Германа Степановича отливали то светло-зеленым, то темно-голубым блеском. "Профессор очень нервничает в последнее время", подумала Гюльназ.
Все умолкли! Будто вспомнив о чем-то, Герман Степанович предложил:
- С вашего разрешения, хочу вам кое-что сообщить. По-моему, это интересно не только музыкальному миру. - С этими словами он снял с рояля "Ленинградскую правду" и вернулся к гостям. - Здесь есть интересное сообщение. - Он протянул газету Гюльназ. - Гюля Мардановна, прочитайте, мы послушаем. Я знаю, ваше сердце полно любовью к музыке.
- Если это так, я прежде всего благодарю вас, Герман Степанович. Гюльназ посмотрела на него смущенно. - В газете написано о вас?
- Нет! Дмитрий Шостакович... Он один из талантливейших наших композиторов, я бы сказал, лучший продолжатель школы Бетховена... Чего стоит одна его Пятая симфония. И вот теперь Дмитрий Шостакович здесь, в блокадном Ленинграде, начал писать свою Седьмую симфонию. Он посвятил ее сегодняшнему Ленинграду, этим, переживаемым нами суровым, трагическим дням.
- Удивительно... - невольно вырвалось у Сергея Марковича. Герман Степанович подозрительно взглянул на него:
- Что же тут удивительного, позвольте вас спросить?
Данилов почувствовал в его голосе какое-то недовольство, хотел поменять тему разговора.
- А когда симфония будет исполняться, об этом не пишут?
- Нет, - Герман Степанович мягко улыбнулся. - Но вы не пытайтесь уйти от разговора, я понимаю, о чем вы думаете. Вы считаете, что в условиях блокады симфонии не пишут, не так ли? Нет, дорогой Сергей Маркович, вы не правы, абсолютно не правы... Тут вы ошибаетесь. - Он обернулся к Гюльназ: А вы как считаете, Гюля Мардановна?
- Я думаю, что вы правы, Герман Степанович. - Она искоса взглянула на Данилова. - По-моему, и Сергей Маркович такого же мнения.
- Ну, раз так, не сыграть ли для нашего нового друга "Патетическую"?
- Благодарю вас, Герман Степанович.
Зуберман постоял у рояля, обернулся к Гюльназ:
- Гюля Мардановна! Когда бы ни состоялось первое исполнение Седьмой симфонии - в тот день вы мои гости. На концерт пойдем вместе. И Саша, наверное, не станет, возражать?
- Я заранее благодарю вас, Герман Степанович!
Зуберман занял свое обычное место у рояля.
- Пора! - произнес он. - Потом нам помешают.
- Верно. - Искендер понял, о чем он говорит. - Пока тихо, мы с Сергеем Марковичем хотели бы вас послушать.
- Не меня, а Бетховена!
Но Искендер на этот раз не желал сдаваться:
- И его, и вас.
- Здесь - мой "зимний дворец". Поэтому я вас не приглашаю в свой кабинет, дверь будет открыта.
- Не утруждаем ли мы вас? - встревоженно спросил Данилов. - Может, в другое время...
- Нет, нет! О чем вы? Я считаю, что эта комната - мой окоп. В последнее время по три-четыре раза в день отсиживаюсь здесь... - Он еще что-то хотел добавить, но передумал. Отвел в сторону вторую штору, в комнате стало светлее. Сел за рояль, некоторое время посидел неподвижно, будто дожидаясь чьего-то сигнала.
- Взгляните на него, - шепнул Искендер на ухо Данилову, - профессор будто на сцене...
Он начал играть. На этот раз зазвучали почему-то бунтующие аккорды не "Патетической", а "Аппассионаты", и Гюльназ вопросительно посмотрела на Искендера. Но тот только покачал головой.
И снова, забыв обо всем на свете, Гюльназ погрузилась в мир несравненной музыки Бетховена. Ей представилось, что в небесах идет бой белого голубя с черным коршуном. То слышалось хлопанье крыльев черного коршуна, то печальный стон белого голубя. Между ними шла беспощадная, нескончаемая битва. И сердце Гюльназ то захлестывали теплые волны весны, то обволакивали бешеные, холодные порывы зимнего ветра.
Когда Зуберман кончил играть, ей хотелось и плакать, и смеяться. Потому что у нее в душе все еще противоборствовали весенние ветры и зимняя стужа.
Как только смолкли последние аккорды, все трое невольно встали и, как бывало в концертных залах, зааплодировали Герману Степановичу.
- Своей игрой вы растопили льды целого города, Герман Степанович, раньше всех заговорил Данилов. - Сегодня вы были величественнее, чем всегда.
В беспокойных глазах профессора отразилась радость.
- Как? Как вы сказали? Сегодня я играл лучше обычного? Вы и прежде бывали на моих концертах?
- Конечно, какой же истинный ленинградец на них не бывал?
- Вот оно что...
Данилов подошел к профессору, вынул из кармана какую-то бумагу и протянул ее:
- Герман Степанович, благодарю вас за эти благостные минуты. В свою очередь приглашаем вас на юбилейный вечер великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Завтра, в четыре мы будем ждать вас у главного входа в Эрмитаж. Если вы сможете...
- Как? Вы меня приглашаете на юбилей? - Зуберман переводил взгляд с Данилова на Искендера.
- На восьмисотлетний юбилей Низами? Который отмечает вся страна? И мы? Война, блокада - и юбилей Низами...
- Сергея Марковича потому и отозвали с передовой. Он делает доклад.
- Иосиф Абгарович Орбели сделает вступительное слово, будет выступать поэт Николай Тихонов. С фронта приедут несколько поэтов-переводчиков, будут читать свои переводы.
- Я тоже прочитаю стихи Низами, - вдруг зарделась Гюльназ. - Товарищ капитан, если вы разрешите...
- Конечно, конечно... будем очень рады... - На азербайджанском языке...
- Это будет вообще прекрасно, Гюльназ-ханум.
- Вот послушайте.
Любовь - алтарь небес высоких,
О, без любви, о мир, чего ты стоишь?
Если б любви была лишена каждого душа,
Не было бы жизни в мире во всем.
Искендер перевел отрывок Герману Степановичу. Тот с восторгом прислушивался к каждому слову.
- Великолепно, просто великолепно! - И, обращаясь к Данилову, предложил: - Сергей Маркович, хотите, я этой же ночью переведу этот отрывок на немецкий... Я знаю язык, а завтра прочитаю на юбилее, пойдет?
- Правда? - обрадовался Данилов. - Вы знаете немецкий? Очень хорошо! Герман Степанович, раз такое дело, мы не сможем без вас открыть юбилей. За полчаса до начала я пошлю кого-нибудь за вами или сам приду. Договорились?
- Нет, дорогой, я не вижу в этом никакой необходимости, - Герман Степанович положил руку Данилову на плечо. - И потом... почему вы заключили, что я могу не прийти на юбилей? Нет! Вы только что сами сказали, что юбилей Низами отмечает вся страна. А я разве не гражданин этой страны? Ко мне этот юбилей касательства не имеет?
- Простите, Герман Степанович, - смущенно проговорил Данилов. - Я этого не хочу сказать. Вы сетовали, что последнее время вам приходится много работать. Отнимать ваше драгоценное время...
- Довольно, дорогой, хватит говорить о моем драгоценном времени. Завтра это мое драгоценное время я посвящаю Низами. В этом можете быть уверены.
И с этими словами профессор направился к роялю, но в этот момент прозвучал сигнал воздушной тревоги. Гости поднялись.
- Вот видите... вот видите... - с прежней нервозностью пробормотал Зуберман. И, взглянув на свои карманные часы, добавил: - Мерзавцы! Точно по часам...
Все поняли, что он говорит о вражеских самолетах. Зуберман вычислил часы вражеских налетов, даже график составил.
Когда все оделись и были готовы к выходу, Гюльназ нетерпеливо спросила:
- Герман Степанович, а вы разве не спуститесь в убежище?
- Вы спускайтесь, спускайтесь, я сейчас... следом... Э, да где этот паршивый ключ запропастился? Подумать только... Ключ в двери, а я ищу его по карманам. Идемте, я вас провожу... и сам... спущусь следом...
Они торопливо спустились по лестнице, у дверей убежища Гюльназ обернулась, поискала беспокойным взглядом Зубермана: "А где же Герман-Степанович?" Где-то поблизости с грохотом разорвался снаряд, Искендер ее не услышал. Взрывная волна подтолкнула их сзади у входа в убежище. Они двинулись вдоль деревянных скамеек, поставленных у стен длинного и узкого коридора, на которых сидели, тесно прижавшись друг к другу, старые, измученные люди. Они прошли в дальний угол подвала.