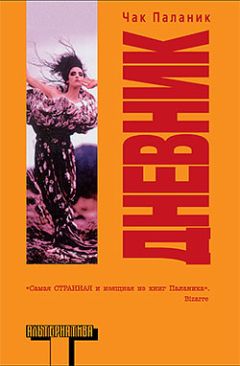Григорий Козинцев - Пространство трагедии (Дневник режиссера)
Вы придирчивы к переводу. Напрасно. Прозаический пересказ стихов и критика подстрочника - неубедительны. В период отрицания поэзии Лев Толстой упрекал одного поэта не только в незнании жизни деревни (крестьянину нечего радоваться приближению зимы), но и в дурном русском языке (нельзя сказать "плетется рысью как-нибудь", нужно "кое-как"); как Вы понимаете, речь шла о Пушкине.
"Проясняя" текст, нетрудно получить сюжет отца, обиженного плохими детьми, рыдающего на груди хорошей дочери. Где же здесь право на обращение к человечеству, спор с мирозданием, мука познания реальности?..
Из письма к С. Б. Вирсаладзе
Октябрь 1969 года
...Некоторые сомнения вызывает у меня только парадное платье Гонерильи. Тут моя вина. Я Вас попутал разговором о спектакле, который она задает отцу, выходя к обеду нарочито торжественно, уже как государственная фигура, как власть. Положение нужно выразить самой сценой, а не платьем. Все внешне парадное противно нашему фильму. Лучше пусть будет баба в засаленном халате. Нет ничего условнее представлений о всех этих "дворах герцогинь". Убежден, что в любом замке XV века были свои нравы коммунальных квартир; были и герцогини, не отличающиеся от кухонных фурий.
{65} Мне очень понравилось глухое, темное платье Реганы; хорошо, что лицо белым пятном выступает из черной повязки; оно напоминает маску. Лицо настоящее, без грима - появится позже. Хочется усилить и другой контраст. Еще более отяжелить, увеличить силуэт Лира в первом выходе; так, чтобы к "буре", когда он теряет верхнее платье, открылось, что он небольшого роста, худой старик; маленький по сравнению с тем, каким он выглядел (казался) в полном одеянии. Ничего больше его не украшает, не делает отличимым от других людей...
Красота, да еще с роковым отливом и инфернальным привкусом, убийственна для таких образов, как Гонерилья и Регана. Регана говорит отцу, что у нее нет запасов, чтобы содержать его с компанией; Гонерилья обрушивается на мужа с грубой бранью, как базарная торговка. Ужасающая обыденность этих похабных и бездушных баб. Евгений Львович Шварц, большой знаток всего сказочного, утверждал, что ведьмы не перевелись на свете: они существуют и отравляют жизнь соседям по кухне. Такая дьяволиада ближе к старшим сестрам.
Не приведут ли меня такие мысли к тому, что исчезнет эмоциональная основа сцен, ужас происходящего? ..
О фильмах ужасов. В одной из таких картин зрителей вовсю пугали чертовщиной; руки вытягивались из стен и тянулись к девице, помешавшейся на каком-то комплексе; наводили страхи ночной темнотой и ночной пустотой; заставляли содрогнуться от блеска лезвия бритвы, сверкавшего в лунном свете... Все там было. Я, к сожалению, оказался плохим, невосприимчивым зрителем. Волосы упорно не подымались дыбом. Но вот в каком-то кадре героиня открыла кран и, терзаемая чем-то зловещим, забыла его закрыть. Вода лилась, переполняла ванну, заливала пол...
Я покрылся холодным потом: ужас перебранки с жильцами нижнего этажа, неизбежность ремонта, запивший маляр... Кошмары душили меня. Оживали картины одна страшнее другой; леденея, я уже не мог оторваться от экрана.
Иногда хочется начинать не со слов, а с походки. Сами движения, жизненный ритм Корделии должны быть иными, чем у всех, ее окружающих. Она - существо иной породы, иной природы, иного вида.
{66} Как бы определить суть этого различия? Различия, которое и выявлять не следует, настолько оно очевидно. Здесь все живут, затаив дыхание, замерев, как по стойке "смирно". Корделия - всегда "вольно"; пусть и в самые страшные для нее минуты - все равно "вольно". Она и под угрозой смерти не вытянется ни перед кем, не проглотит аршин. "Вольно" - ее жизненная позиция, не выбранная, а врожденная. Такой ее создала природа, потому что природу - в этом случае не исковеркали, не удалось исковеркать; затоптать, убить можно, а исковеркать нельзя, никому не под силу.
Нет оснований бояться, что в роли немного красок. Зато сколько оттенков у этого "вольно". Естественность дыхания - да это целая программа жизни.
Ее поэзия буквально во всем противоположна поэзии Офелии. Та - хрупкость, нежизненность, совершенное отсутствие силы сопротивления. Тепличный цветок, нежный и блеклый, выращенный в железных оранжереях Эльсинора. Трагедия покорности.
Корделия не помышляет о бунте; ей и мысли такой прийти в голову не может. Но она сама - нетронутой своей естественностью - мятеж. Самая обыкновенная, здоровая, правдивая девушка - да это восстание, баррикада, перегородившая дворец.
Пусть выведет ее па церемонию чопорный черный манекен, профессор притворства; ее воспитывали на Гонерилью и Регану, но ученица оказалась из рук вон плохой; "неподатливый материал", как огорчаются педагоги, "природных данных вовсе нет". И ничему она не научилась: ни вести себя, как должно принцессе, ни изъясняться, как подобает наследнице престола. Пусть она и вечернего (то есть придворного) платья толком носить не умеет, - слишком широкий шаг.
Медленно, будто под гипнозом вечного страха, движутся - даже не движутся, а как бы незаметно передвигают себя (будто фигурки в мультипликации) придворные. А она, бегом по лестнице, кубарем, как деревенская девчонка. Высокая, загорелая, крепкого сложения.
Какая уж там принцесса!.. Конечно, французский король выбрал ее; он же не слепой.
Однако любовь эта особая. Французский король приехал сюда не из сказки; он - глава государства; ссора с ним Лира - дипломатический акт. Телеграфные агентства наших дней передали бы о событии по телетайпу: французская делегация в полном составе демонстративно покинула зал заседания.
{67} Образ не вырисовывается постепенно, а наваливается на тебя со всех сторон. Это фотографии так проявляют - не торопясь ждут, чтобы выступили на светочувствительном слое более плотные тени, затем помягче, а вот и все изображение становится отчетливым. Образ то приближается, то исчезает, меняет очертания, распадается на части; рассеченные плоскости, срезы фаса и профиля разом - все пересекается, членится и выстраивается в новой закономерности, как на кубистической картине.
Так появляются - сперва без связи - интонация фразы, вырвавшейся откуда-то из середины текста, сказанная (слышимая) вопреки прямому смыслу текста; оглушающая немота зала; жест, начатый и оборванный; тень от предмета на каменной стене; одни глаза, а еще лица не видно; грубые, скрученные нитки, ткань будто рогожа...
К этому герою у меня особое пристрастие. С детства я увлекался клоунами. У меня целая полка книг о пантомиме и комиках; в свое время только Эйзенштейн мог бы поспорить со мной своими приобретениями. На стене моей комнаты висят две гравюры начала прошлого века: Джоэ Гримальди ("Микеланджело клоунады", как именовали его историки театра) разгуливает в ведрах со шпорами - вместо сапог, и он же лягушкой прыгает через партнера. Это подарок Сергея Михайловича в день премьеры "Возвращения Максима".
Итак, "История комического гротеска", "Шуты королей", "Скоморохи", монографии о бродячих комедиантах, "Маски и буффоны"...
Ничего из этих книг пригодиться не может. Ровно ничего, ни малейшей детали. Однако время, отданное поискам источников, все же не потрачено зря. Как раз то, что исторические материалы никак не совпадают, на мой вкус, с "Лиром", дает направление мысли: оставить без внимания именно то, на что раньше обращали особое внимание.
Нужно упереться веслом в землю и оттолкнуться от берега посильнее, чтобы лодка пошла по воде, чтобы берег вовсе исчез из вида.
Убрать из роли шута все, связанное с шутовством. Ни ужимок, ни гримас, ни пестрого костюма, ни колпака с петушиным гребешком. И погремушки тоже не надо. Никакой эксцентрики, ни малейшей виртуозности в пении и танцах.
Вот самое удивительное положение: хохочут вовсе не потому, что он шут, а оттого, что он говорит правду. Деревенский дурачок. Мнимый дурачок.
{68} Не король и шут, а сильный и слабый, богатый и нищий. Самый возвышенный и самый униженный. Самый униженный говорит самому возвышенному, что тот - дурак, потому что не знает своих дочерей. Все хохочут. Но это правда.
Ничего смешнее правды для них нет. Гогочут над правдой, пинают правду сапогами на потеху, держат правду в псарне на посмешище.
Шут - как собачонка. Огрызается, как собачонка.
Так появился костюм, идея костюма: никаких атрибутов шута, нищий, драный, в собачьей шкуре наизнанку. Мальчик, стриженный наголо.
Искусство при тирании.
Мальчик из Освенцима, которого заставляют играть на скрипке в оркестре смертников; бьют, чтобы он выбирал мотивы повеселее. У него детские замученные глаза.
- Все-таки,-сказал мне Вирсаладзе,-хоть какой-нибудь знак профессии у него должен быть.
Останавливаемся на самом незаметном: бубенчике, привязанном к ноге. Отличие не столько видимое, сколько слышимое.
Примета в звуке. Перед появлением шута негромкое бренчание. Нечто вроде позывных: радиослушатель знает, что сейчас начнется передача, нужно точнее настроиться на волну.