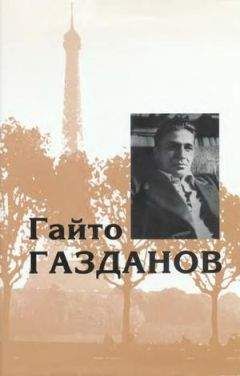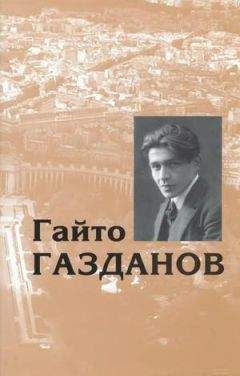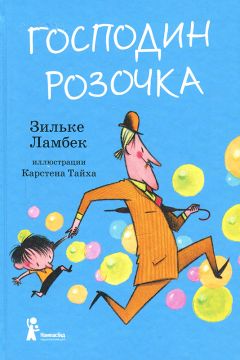Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
– Вы не уйдете… – нерешительно сказал офицер. Пленный махнул рукой:
– Сядьте, отдохните немного. Вы, должно быть, устали от стрельбы.
Они сели – и офицер заснул, не успев закрыть рта. С полатей слышалось равномерное дыхание крестьянки.
Тарасов, почти сползший с табуретки, спал, вися в воздухе и покачиваясь.
– Сонное царство, – пробормотал пленный. Потом он открыл завизжавшую дверь и вышел.
Офицер проснулся через пять минут. Пленного не было.
Тогда он вскочил с места, вытащил из кобуры Тарасова маузер и выбежал из избы. Фигура пленного чернела уже довольно далеко. Начинался рассвет; снежная пыль взвивалась над дорогой.
Офицер бежал за пленным, не чувствуя холода. Ноги его дрожали, он падал и опять поднимался. В снежной пыли перед ним мелькала узкая спина пленника.
Он выстрелил; пуля зарылась в снег возле правой ноги человека в штатском и тотчас же в деревне завыла собака. На душе офицера сразу стало тревожно и нехорошо. Пленный обернулся.
– Стой! – хотел крикнуть офицер – и не мог. Холодный револьвер прилип к его пальцам.
Теперь пленный шел навстречу офицеру. Правая рука его была засунута в карман.
Офицер с ужасом заметил, что левая, деревянная, рука пленного не была более неподвижной. Офицер не мог пошевельнуться; он молча стоял на снегу, опустив ненужный револьвер и чувствуя, что сейчас произойдет что-то страшное.
Он дернул головой. Деревянный кулак пленного ударил его два раза по лицу; он упал ничком в снег и остался лежать неподвижно.
Размахивая правой рукой и делая большие шаги, пленник уходил все дальше и дальше в поле – пока снег не скрыл его совершенно.
Литературная критика и эссеистика*
Заметки об Эдгаре По, Гоголе и Мопассане*
Есть писатели, которых судьба не представляет ничего замечательного; и нам трудно бывает в таких случаях предположить существование непосредственной зависимости между личностью художника и его искусством, и столь же трудно – определить степень психического напряжения и соответствующую ей глубину эмоциональной тональности тех или иных произведений. Зато нет ничего легче, чем проследить этапы литературного развития такого писателя и побуждения, толкнувшие его на путь именно литературной работы: чаще всего эти причины носят характер общественной необходимости. Писатели такого рода почти всегда пользуются успехом, тираж их книг бывает высок; их романы, рассказы, пьесы и стихи, собственно, и составляют большую литературу современной им эпохи.
Они не всегда непременно плохи, среди них попадаются очень талантливые люди; но надо раз навсегда усвоить, что все это литературное производство не имеет ни малейшего отношения к искусству – да и подчиняется совершенно иным требованиям и законам. Для широкой публики этот вопрос еще иногда кажется спорным.
К категории этих писателей, чрезвычайно многочисленных, принадлежат некоторые из наиболее знаменитых: во французской литературе Золя, Виктор Гюго, в русской – Некрасов, Тургенев. Не приходится и говорить о том, что нынешняя русская беллетристика чрезвычайно богата людьми этого второсортного «искусства»: перечень их имен занял бы целую страницу. Равным образом в нынешней французской литературе, за исключением четырех-пяти писателей, других, занимающихся искусством, не существует вовсе. Было бы ошибочно, мне кажется, считать это «знамением времени»; как будто бы так было всегда – и мы можем совершенно объективно установить, что помимо немногочисленных великих писателей, которых публика читает потому, что ей это ежедневно внушается критикой (отчасти поэтому, отчасти в силу любопытного социологического закона подражания; люди с низкой культурой подражают вкусам людей более культурных), – наибольшей популярностью всегда пользовались и пользуются авторы невежественные и неталантливые, люди потрясающего духовного убожества, редкого даже среди неграмотных: Маргерит, Декобра; популярность писателя обратно пропорциональна его близости к искусству; а в тех случаях, когда известность достается настоящему, творческому таланту, это объясняется недоразумением: таковы примеры Марселя Пруста, Достоевского, Мопассана, из многочисленных почитателей которых едва ли одна десятая часть «ведает, что творит».
* * *Достоевский испытал переживания осужденного на смерть и ужасные эпилептические припадки; Гоголь был снедаем тем беспрерывным духовным недугом, который довел его до безумия; Мопассан, записавший в «Le Horla»[297] мысли сумасшедшего, собственно, вел дневник своей же болезни; Эдгар По провел всю свою жизнь точно в бреду.
Этот американец, скитавшийся из одной страны в другую, был подобран в бессознательном состоянии на дороге и умер на казенной койке госпиталя; и обстоятельства его смерти, при всей их банальности, страшны и убедительны. В его судьбе есть много общего с судьбой Франсуа Вийона; и подробной биографии Эдгара По до сих пор не существует. Остается, например, совершенно неизвестным, что он делал с 1826 по 1829 год; мы знаем только одно: прожив некоторое время в России, он вынужден был спешно покинуть Петербург, «будучи замешан в чрезвычайно темном и скверном деле, он должен был искать защиты у американского посла, который дал ему возможность ускользнуть от правосудия и уехать в Америку», – как сообщает один из его французских биографов Альфонс Сэшэ.
В смерти каждого большого человека есть всегда нечто кощунственное: достаточно напомнить пример Вольтера или Мопассана. Но кончина Эдгара По даже по сравнению с этими случаями представляется особенно ужасной. Он умирал в пустоте, совершенно один – так же, как и жил – умирал от нищеты и истощения. Официальный рапорт врача гласит: «Больной умер от необычайного нервного возбуждения, вызванного лишениями и усиленного долговременным пребыванием на холоде»[298].
Умирая, он говорил: «Своды неба давят меня. Пропустите меня…»
«Я убил самого себя, я вижу гавань на той стороне пропасти… Огненный корабль, медное море!..»
«Эдгар По был очень красив. Черты его лица казались искусно выточенными, лоб был высок и широк: его пропорции соответствовали в точности пропорциям черепа Наполеона!..»
Искусство фантастического возникло после того, как люди, его создавшие, сумели преодолеть сопротивление непосредственного существования в мире раз навсегда определенных понятий, предметов и нормальных человеческих представлений. Эти представления настолько тяжелы, что их можно уподобить вещам материального порядка: и среднее человеческое воображение резко ограничено их узким кругом. Для того чтобы пройти расстояние, отделяющее фантастическое искусство от мира фактической реальности, нужно особенное обострение известных способностей духовного зрения – та болезнь, которую сам По называл «болезнью сосредоточенного внимания».
За пределами нашей обычной действительности происходят явления, которых мы не можем согласовать с известными нам законами, – тем более что мы вообще лишены возможности так различать явления чувств или впечатлений, как мы различаем, например, цвета или величины. Мы не можем определить ни что такое страх, ни что такое смерть, ни что такое предчувствие. В обыкновенном языке мы знаем все слова для обозначения самых различных физических феноменов: но тот же язык изменяет нам, как только мы вступаем в область иных понятий, понятий эмоционального порядка. И столь привычная нам речь начинает звучать как иностранная:
«Рядом со мной лежало мое тело со стрелой в виске, голова была вздута и обезображена» («Сказка извилистых гор»).
* * *Писателя, искусство которого находится вне классически рационального восприятия, неизменно постигает трагедия постоянного духовного одиночества. Он живет в особенном, им самим создаваемом мире – и состояние полного отчуждения от других людей бывает под силу лишь немногим, одаренным исключительной сопротивляемостью. Мы знаем, что большинство его не выдерживает. Мы знаем также, что обостренное сознание неминуемого приближения смертельной опасности делает этих людей, с нашей точки зрения, почти сумасшедшими: вспомните Паскаля, всегда видевшего бездну рядом со своим стулом. Чувство страха принимает у них необыкновенные размеры. «Ничего не произошло, но мне страшно», – записывает в своем дневнике герой Le Horla. «Существование страшного в каждой частице воздуха», – повторяет Рильке.
Если бы никто из них не преодолел этого страха, многие страницы Гоголя, По, Мопассана остались бы ненаписанными. Но самое древнее человеческое чувство, так жестоко наказанное библейской мудростью, побуждает их все же пытаться постигнуть неведомые законы несуществующего – почти дословно цитирую По: «Постичь ужас моих ощущений, я утверждаю, невозможно; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей, перевешивает во мне даже отчаяние и может примирить меня с самым отвратительным видом смерти. Вполне очевидно, что мы бешено стремимся к какому-то волнующему знанию – к какой-то тайне, которой никогда не суждено быть переданной и достижение которой есть смерть» («Рукопись, найденная в бутылке»).