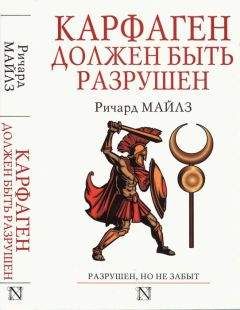Александр Эртель - Волхонская барышня
— Хороша? — улыбаясь, спросил Захар Иваныч.
— Больно хороша, окаянная, — живая!.. Только я что думаю, Захар Иваныч (в это время подошли и другие плугари), что мы, мужики, думаем, — и он закопошился над плугом, — взять бы теперь, к примеру, этот отрез, и ежели б на него связочку поаккуратней… А то видишь ручка-то у него круглая, чуть что попадается ему навстречу, он и вертится в связке-то… Мы и то клинушки в нее продеваем… (Действительно, около всех «отрезов» виднелись клинушки.)
— Да ведь тут винт есть!
— Есть. Есть-то он есть, а державы в нем нетути. Ты гляди — как ее, круглую вещию, винту содержать?.. Никак ее содержать невозможно. Немец-то хитер, а тут, прямо надо сказать, опростоволосился.
— Може, у них земли мягкие, — снисходительно заметили другие, — пусти-ка ты ее в огород, она и у тебя без клиньев будет ходить.
И Захар Иваныч, с широкой улыбкой на сияющем лице, согласился, что точно, для наших земель отрез нужно переладить. Восхищался и Тутолмин этой сообразительностью мужиков:
— Ведь ежели бы им в общину эти плуга, — они бы закопались в жите! — воскликнул он и тут же спросил Захара Иваныча: — А ты те-то два плуга — в мир продал?
— Нет, хозяйственным мужичкам.
Илья Петрович гневно посмотрел на него.
— Скотина ты, — решительно сказал он.
— Да не берут в мир-то; что ты с ними поделаешь… — оправдывался Захар Иваныч.
Но Тутолмин не верил.
— Оттого и не берут, что совесть у тебя, у буржуя, не чиста, — ворчал он, — видят, не ихний ты слуга, а барский, и не берут. К подвохам-то к нашим пора и привыкнуть: века обучались!
Паровой плуг тоже работал великолепно. Пантешка несколько утратил развязность своих манер и был уже в синей, а не в красной рубахе. Но тут Захар Иваныч все-таки нашел беспорядок: пары были подняты до 115 фунтов, между тем как уже 90 отмечалось на манометре красной черточкой. Локомобили глухо ворчали и дрожали как в лихорадке.
— Что вы делаете! — в отчаянии закричал Захар Иваныч, — ведь третий раз вас ловлю… Ей-богу, штрафовать буду… Ведь ваших и костей-то здесь не разыщешь!
Машинист пасмурно хмурил брови и ругался на кочегаров. Кочегары сваливали вину на пылкий уголь…
— Да чего это они? — полюбопытствовал Илья Петрович, когда плуг остался далеко позади.
— Вся беда в премии и в лени, — сказал огорченный Захар Иваныч, — с большим паром плуг успешней работает, и, следовательно, для них выгодней; а для лени опять-таки способнее, меньше забот с топливом.
— Да разве они не знают, что эта игра может скверно кончиться?
— Лучше нас с тобой. Да что ты поделаешь с этими отвратительными российскими свойствами!.. Тот же кочегар Труфлий — это шершавенький-то — ужасный трусишка, и как-то на днях его ни за что не уговорили идти ночью рыбу ловить. Там, видишь ли, «водяной» его слопает!.. Здесь же ежечасно взрыв может последовать, а он сидит около топки да в рубахе блох ищет!.. Изумительнейшие чудаки!
— А где Мокей? — вдруг вспомнил Тутолмин. — Я его недели две не вижу.
— Эге! Мокей давно уж восвоясях.
— Опять ушел?
— И деньги вперед забрал.
— Тоже чирий вскочил?
— Нет; говорит, жена умирает. Может, и правда. В селе действительно ходит горячка.
— Что же, есть помощь? Есть доктор? — встрепенулся Тутолмин, и вдруг какое-то жгучее ощущение стыда хлынуло на него неукротимыми волнами.
— За доктором два раза уже посылал. Фельдшер приезжал, ходил по избам…
— Да что же это… да как же ты… — заволновался Илья Петрович.
— Да я-то что поделаю? Я и узнал-то только четвертый день.
— Нет, хорош я!.. — с горечью произнес Тутолмин. — Люди издыхают как собаки — без помощи, без света, в грязи, в гное, а я… — и он не мог договорить от душившего его волнения.
— Да беда вовсе не такая страшная… Ты напрасно волнуешься, Илья, — говорил Захар Иваныч, с участием заглядывая в лицо Тутолмина, — еще никто и не думал умирать. И каждое лето в это время народ болеет…
— Каждое лето! — с негодованием воскликнул Тутолмин. — Если каждое лето болеет — объясним законом, придумаем формулу и успокоимся… И успокоимся?.. Каждое лето!.. Да что же это такое, Захар? Да ужели же так легко обратиться у нас в подлеца?.. Да ужели же… Ах, проклятые нервы! — спохватился он, весь охваченный дрожью.
Дома его ожидал изящный конвертик с монограммой, увенчанной темно-синей коронкой. Он в досаде разорвал его и прочитал записку. «Дорогой мой! — писала Варя. — Скучно мне без тебя; не мил мне без тебя этот сухой господин Постников!.. Приходи, скучно, жду. Твоя В.».
Злоба закипела в Тутолмине.
«У нас под боком люди околевают, драгоценная барышня, — писал он ей в ответ, — а мы, — благодаря терпким горбам этих людей получившие возможность корежиться в миндальных мечтаниях, — толчем розовую воду и смакуем книжки. Не приду я к Вам.
Илья Тутолмин».
В postscriptum'e [5] значилось: «В селе горячка. Крестьяне умирают без малейшей помощи».
Но не успел еще Илья Петрович, отославши записку, несколько успокоиться, и не успел он натянуть сверх старенькой своей блузы неизменное куцее пальтишко, как в дверях неожиданно появилась Варя. Она была в своем малороссийском костюме, и простенький платок покрывал ее голову. В левой руке она держала битком набитую корзинку. Лицо ее было бледно и встревоженно.
— Пойдем же скорее, — торопливо сказала она.
— Куда? — в удивлении спросил Тутолмин.
— Как куда! Туда, где болеют, где нуждаются в помощи.
Радостное умиление охватило Илью Петровича.
— Славная ты моя, — вымолвил он, с любовью поглядев на возбужденное личико девушки. — Что же у тебя в корзинке?
Она застенчиво приподняла салфетку, закрывавшую корзину.
— Булки тут, — нерешительно сказал она, — бисквиты, варенье, пирожки…
Тутолмин рассмеялся.
— Не подходит, моя родимая, — ласково произнес он. — А уксус взяла? А чай, сахар, лимоны, вино?
— Не догадалась, — прошептала девушка.
— Ну, это мы все достанем, — и он с веселой поспешностью начал рыться в буфете.
Когда они вышли, Варя с опасением оглянулась.
— Ты знаешь, — сказала она, — папа ужасно мне надоедает своим глумлением. Я не хочу, чтоб он знал о моем путешествии. — И они глухой дорожкой, минуя усадьбу, прошли в село.
X
На порядке было пусто. Только среди улицы тоскливо бродили куры да в тени пыльных ракит отчаянно зевала какая-то Жучка, истомившаяся в непроходимой скуке.
— Где же народ? — спросила Варя, удивленная этой пустынностью села.
— Пар мечут; проса полят, у иных покос еще не отошел. А может, и болеют многие, — ответил Тутолмин, которого при входе в деревню охватило строгое и унылое настроение.
Наконец у кузницы они набрели на толпу. Девчонки сидели в кружок и, наблюдая за крошечными своими братишками и сестренками, играли «в камешки». Но только лишь они заметили «господ», как тотчас же схватились с места и пустились врассыпную. Более маленькие подняли крик. Одна девочка, впрочем, осталась. Она крепко зажала в колени беловолосого мальчугана с лицом, вымазанным кашей, и смело смотрела на подходивших «господ».
— Ты, девка, чья? — спросил ее Илья Петрович, и лицо его сразу сделалось добродушным.
— Мамкина.
— А мамка твоя чья?
— Батькина.
— Хорошо. А сколько тебе годов?
— Семой.
— А зовут тебя как?
— Лушкой.
Разбежавшиеся девчонки стояли в отдалении и перешептывались. Иные из них нерешительной поступью приближались к Лушке, крик унялся.
— А пряника хочешь? — спросила Варя. Лушка подумала.
— Нет, — сказала она, быстро мотнув головою.
— Отчего? — удивилась девушка и в недоумении посмотрела на Тутолмина.
— Ты, ну-ко, испортишь.
Варя рассмеялась.
— Это кто же тебе рассказывал, что можно испортить? — спросила она.
— Мамка сказывала.
— Ты знаешь, где Мокей живет? — вмешался Илья Петрович.
Лушка похлопала глазами и ничего пе ответила.
— Мокей, который на барском дворе жил, — подчеркивая каждое слово, повторил Тутолмин. — Мокей — ямщик.
— Шильник! — живо воскликнула девочка.
— Ну, стало быть, «шильник» — с усмешкой согласился, Тутолмин.
Лушка тотчас же указала на Мокеев двор.
По уходе «господ» девчонки быстро собрались в кучку и горячо стали рассуждать о происшествии. Больше всех размахивала руками Лушка. Но они не побежали вслед за «господами» и не стали кричать и выказывать запоздалое молодечество, как то сделали бы мальчишки, а с преувеличенной развязностью сели в кружок и степенно заорали:
Я по тра-а-вке шла
По мура-а-вке шла,
Чижало несла,
Чижалехонько!
Чижа-а-лехонька,
Жэлу-у-бнехонька.
Жалубней тово
Девка плакала!
Па сва-а-ем дружку,
Па Ива-а-нушке —
У Иванушки
На головушки
Вились кудрюшки!..
— Что это значит, что девочка говорила о порче? — спросила Варя, когда они подходили к Мокеевой избе. Но Тутолмин не ответил. Глубокая морщина лежала у него над бровями.