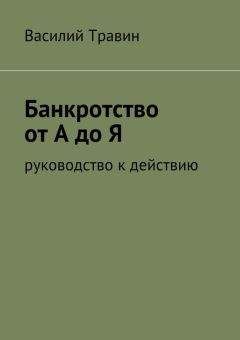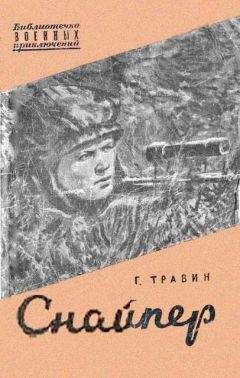Василий Брусянин - Опустошённые души
— Извёлся совсем Коленька.
— Да-а… Политика уж такое дело — изведёт! Я, вон, никогда не занимался политикой и вышел в отставку с пенсией, да и ордена кое-какие есть. А прожить жизнь и не быть отмеченным чем-нибудь — ку-у-да невесело!
Они помолчали, хотя Платон Артемьич не любил молчать.
— Не знаю уж, как он и жить будет. Живой покойник какой-то. И странный. Увидел щеглёнка в клетке и прочёл мне целую проповедь.
— Что же ему этот щеглёнок-то — философия, что ли, какая?
— Не философия. А говорит, что очень безжалостно заточать птичек в клетки… И вас как будто осуждал за это!..
— Ха-ха-ха! Вот ещё удумал! А? Да я без птичек моих милых и жить-то не могу!
VII
Появился в столовой Николай Николаич, и Пузин неловко смолк, встал, протянул руку и даже расшаркался. А сам смотрит в глаза Николаю Николаичу и по их выражению хочет определить, — слышал ли тот последнюю его реплику или нет.
— Поздравляю вас, многоуважаемый Николай Николаевич… — начал было он, но Верстов перебил его суровым вопросом:
— С чем вы меня поздравляете?
— С возвращением под кров тётушки вашей Анны Марковны…
— Ага! Ха-ха-ха! — рассмеялся Николай Николаич. — Ну, с этим следует поздравить.
Пока ели пирог с капустой — молчали. Платон Артемьич исподлобья посматривал на Николая Николаича и думал: «Вишь ты, какой он строгий. На лицо суров как ветхозаветный мученик. Небось, тюрьма — тюрьма. Заправская крепость! Ну, что ж, и поделом тебе: не суйся в политику».
Верстов совсем не глядел на отставного чиновника и первое время как будто и не замечал его.
Когда после пирога подали кофе со сливками и сдобными булками, Платон Артемьич, которому надоело молчать, начал первый:
— А я слышал, многоуважаемый Николай Николаич, что вы меня осудили?
— Вас осудить? Да я первый раз вас вижу! — воскликнул Верстов, поднимая на Пузина глаза.
— Ну, да… в первый раз, а уж осудили. Относительно птичек что-то проезжались и насчёт меня. Птичкам я ничего дурного не делаю. Поглядели бы, сколько я их нынешней зимой от верной смерти спас. Бывало, мороз, вьюга, а они, бедненькие, на дворе. Поймаю и посажу в тепло, да и корм-то у меня хороший: едят, сколько хотят — вволю.
— Собственно, Коленька не осуждал вас, Платон Артемьич. Он говорил только по поводу вас, — с озабоченностью в голосе вставила Анна Марковна, которая в эту минуту даже пожалела, что передала Пузину разговор с племянником о птичках.
— Тем хуже, Анна Марковна, если «по поводу»! — воскликнул Пузин, и румянец на его щеках выступил ещё ярче. — По поводу! Как никак, а я — человек! Личность!.. Так сказать, а не вещь какая-нибудь, чтобы по поводу её говорить!..
Он разобиделся не на шутку, и, если бы Николай Николаич сделал какое-нибудь замечание или улыбнулся, недоразумение могло кончиться нешуточной вспышкой гнева.
Помолчали, занятые кофе. Разговор вообще не клеился. Николаю Николаичу не хотелось говорить, а Пузин объяснял молчание приезжего «ферта» его «гордыней не в меру». Это его обижало.
— Уж если хотите, Платон Артемьич, то я скажу вам, что говорил. Говорили мы, именно, по поводу вас, а не о вас. Хотя это вам и весьма обидно, но что же сделаешь. Порабощение птичек я, вообще, считаю бессмыслицей. Если, конечно, в уловлении их нет научной цели. Для науки, говорят, можно и человеком пожертвовать. Я-то этого не говорю. По-моему, человеком никогда нельзя жертвовать, как бы цель этой жертвы велика ни была. Вот, хотя бы я про себя скажу. Просидел я в крепости семь лет, да раньше три года в харьковской тюрьме сидел… И всё думал я, что за других страдал, за человечество… А умные юристы говорят, что я — жертва государственности. Понимаете?.. Кто-то принёс меня в жертву государственности. Вышел я на волю и вижу: государство осталось прежним, не в пользу ему пошла моя жертва… или, вернее, жертва из меня. А общество как было свинушником, так и осталось им. Поняли? Какую бесполезную жертву сделали из меня!
— Не понимаю, собственно, о какой жертве вы говорите, — возразил Пузин, барабаня пальцами по краю стола.
— Вот то-то и худо, что не понимаете! Вашими устами говорит государство. Наше российское государство.
— Ей-Богу, не понимаю!
— Ведь вы — чиновник в отставке? Так сказать, маленький бюрократ?
— Да-с, я — чиновник и ордена имею! — вспылил Пузин, которому показалось, что в ссылке Николая Николаича на свинушник есть какая-то личная обида.
— Ну да! Вот я и говорю! Вы — бюрократ, так сказать, представитель той государственности, которая меня слопала, а осталась такой же.
Предчувствуя ссору, Анна Марковна принялась усиленно угощать гостя и племянника пирогом. Но оба они отказывались, косясь друг на друга. По лицу Николая Николаича, впрочем, бродила добродушно-ироническая улыбка. Лицо Пузина было злое. Сидел он, барабаня пальцами в крышку стола, вращал злыми глазами, и мясистое лицо его пылало краской.
— А что же добро? Что истина? — вдруг выпалил Платон Артемьич. — Ну-ка, скажите мне: что добро и что истина?
Как-то раз, как казалось Платону Артемьичу, таким же вопросом он заставил замолчать одного «студиозуса».
— Не делайте другому больно, вот вам единственная истина.
— Ха-ха-ха! — деланно рассмеялся Пузин. — Это очень просто выходит. Ха-ха! Просто!.. Очень просто!..
Платон Артемьич долго смеялся неудержимым и ехидным смехом, и ему казалось, что именно этим-то смехом он и уничтожает своего противника.
Николай Николаич равнодушно посмотрел в лицо Пузина и молча удалился.
Уходя и прощаясь с Анной Марковной, Пузин потыкал себе в лоб пальцем и безапелляционно заявил:
— Как ни неприятно вам слышать, дорогая моя соседка, но у него… того… должно быть, в голове-то беспорядок.
— И я стала замечать, Платон Артемьич. Что же делать-то?
— Что делать? Трудно сказать. А только мы с ним не сойдёмся. Я таких людей не понимаю. При чём тут государственность? Бюрократия? Птички? И ещё чёрт знает что. Свинушник!.. Это уже личное оскорбление…
— Коленька всегда считался умным человеком…
— Считался? Я вон считался кандидатом на статского советника, а уволили меня — надворным… Да-с!
VIII
— Не мучайте меня, тётя! Не мучайте! — закричал Николай Николаич, схватившись руками за виски и соскакивая с подоконника.
— Как хочешь, Коленька…
Анна Марковна виновато заморгала глазами, утёрла платком всё ещё влажные от чая губы и отступила. И тихим голосом продолжала:
— Пришли они и говорят: «Хотелось бы на Коленьку поглядеть». Ведь всё же родственники они: Павел Кузьмич приходится тебе двоюродным дядей, а Сонечка, дочка его, — сестрицей, хотя и не родной.
— Не могу я никого видеть, тётя, и не хочу. Понимаете — не хо-чу!
— Как хочешь, дорогой мой, неволить не буду.
И она вышла из комнаты, плотно притворив дверь. Николай Николаич слышал, как шамкали туфли тётки, пока та спускалась с лестницы, и искоса посматривал на дверь, как будто за нею скрылось что-то ненавистное, беспокоящее. Повернул лицо и уставился в окно на верхушки берёз и лип.
Солнце опускалось к закату и золотило верхушки деревьев. И опять что-то странно-печальное чудилось в этой позолоте, в этих ласковых и нежных прощальных огнях уходящего дня. И небо с бледно-розовыми тучами казалось грустным. Меланхолическими, притаившимися в дремоте казались и тени, расположившиеся под кустами. И какие-то птички пели в кустах печально…
Впрочем, разве их писк можно назвать пеньем? Дрожит зыбкая, нежная мелодия, прерывается, снова дрожит и снова прерывается.
Николай Николаич вспомнил свой спор с Пузиным о птичках и подумал: «Как я опустился! Как я опустился! Не глупо ли читать проповедь о любви к птичкам, когда люди перегрызают друг другу горло? И кому читать эти проповеди? С кем спорить? С чиновником! Стыдно! Стыдно!»
Встал, повязал на воротник мягкой сорочки галстук, взял трость, одел шляпу и пошёл. По лестнице старался спускаться неслышными шагами и, когда совсем сошёл с лестницы, заглянул, — затворена ли дверь в столовую. Дверь была плотно притворена. За нею слышались голоса: энергичный, «хозяйственный» голос Анны Марковны, шепелявый тенорок дяди и нежное контральто Сонечки. С последней ступеньки на пол Верстов спустился осторожно и шмыгнул в кухню. Двором шёл быстро, миновал сарай и только по огороду шёл медленней, хотя и осматривался по сторонам. Ему всё казалось, что люди подсматривают за ним в щели забора и чрез тын, и в окна отдалённых мещанских домиков. И успокоился только тогда, когда миновал выгон и дошёл до леса.
В пустынном поле перед вечером не было ни души. Стада уже вернулись в город. Шёл, смотрел на собственную длинную тень, отброшенную ярко-красными лучами заходящего солнца, и думал: «Стыдно! Стыдно спорить о птичках с помешанным чиновником, с мёртвым человеком. Ужели же во мне только и осталось энергии, чтобы спорить с ним?»