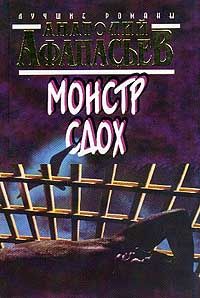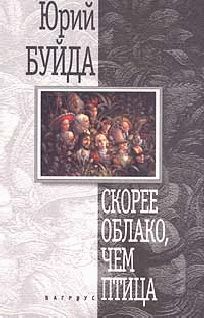Владимир Кораблинов - Прозрение Аполлона
– Дивно! Но, Фимушка, милый, почему же – сиятельство? Ведь он не князь, не граф… Он генерал, надо – его превосходительство…
– Размер, понимаешь, не позволяет. Ай, да не один ли черт – генерал ведь… Ты ко скольким отделаешься?
– М-м… сейчас – в редакцию, малевать Деникина на пиках, к двенадцати – студия. Часам к четырем, пожалуй. А что?
Смешливо покусывает яркие, чуть пухлые губы. Поправляет выбившиеся из-под шапочки волосы. Застегивает нижние пуговицы кожанки. Верхние не сходятся на груди, вот богатырша! Куда ж ему, тощему, слабосильному…
«Все равно, нынче объяснюсь! – упрямо думает Ляндрес. – Все равно…»
Редактор вчера сказал:
– Что-то, товарищи, о красоте забыли мы. Война, хлеб, транспорт, заводы – это так, это, конечно, первый вопрос на повестке дня, тут, товарищи, спорить не приходится. Но, как говорится, не хлебом единым… Культуру, ребята, надо освещать. Культуру. Нашу. Советскую. Работники культурного фронта у нас в тени как-то. А между прочим, замечательные есть люди…
И он назвал сотрудника музея товарища Легеню. Энтузиаст своего дела. Горит на работе, как говорится…
– Сходи-ка, товарищ Ляндрес, побеседуй, как и что. Он, Легеня, конечно, старого дерева кочерга, но с нами. Такую интеллигенцию привлекать надо. Поощрять. Читал, конечно, как товарищ Ленин на съезде по поводу специалистов ставит вопрос? Ну, вот-вот… Валяй.
Проводив Риту до дверей редакции, Ляндрес «повалил» в музей. Год с небольшим назад ему довелось провести здесь тревожную ночь. В те дни в городе было неспокойно: анархисты шумели, постреливали, грабили магазины, склады. Чтобы сберечь музейные ценности, городской комитет партии организовал ночные дежурства вооруженных коммунистов в помещении музея. В одну из ночей пришлось дежурить и Ефиму. Он хорошо помнил ту февральскую вьюжную ночь, вой бурана за белесыми от пушистого инея, промерзшими окнами высоких, сурово, как бы презрительно молчащих комнат. Странно, фантастично вырисовывались в полумраке очертания диковинной старинной мебели, таинственно мерцали стеклянные витрины, сами собой мелодично, жалобно звенели хрустальные подвески венецианских люстр… И сердито из тускло поблескивающих рам хмурились какие-то важные старики в усыпанных звездами мундирах. Около полуночи где-то далеко, в городе, застучал пулемет, бестолково посыпались отдельные винтовочные выстрелы. «Ну, поглядывай, ребята, – сказал охранникам старшой. – Главное, у подъездов, у черного хода…» Их было пятеро, наряженных на ночное дежурство. Гулко, отзываясь протяжным эхом, звучали шаги. Разговаривали шепотом и все прислушивались, прислушивались… Длинна показалась Ляндресу та ненастная ночь. Он и теперь с чувством какой-то почти детской робости ступил под мрачные тяжелые своды старого дома. Среди провинциального плохонького дворянского ампира и доходных купеческих и мещанских домов этот екатерининских времен дворец выглядел как подлинный большой вельможа, попавший в пеструю компанию мелких, лебезящих и заискивающих перед ним обывателей. Он и стоял-то не в ряду других домов, не по уличной линейке, а в просторной глубине пустынного двора, окруженный приземистыми каменными службами, за которыми в зимней наготе чернел огромный сад, заросший, как лес, с косматыми шапками вороньих гнезд на верхушках столетних деревьев.
Внутри было сумрачно и холодно. Тусклый свет едва проникал сквозь морозные стекла зарешеченных окон нижнего этажа. Просто невозможно было представить здесь, что рядом, на улице, – яркое синее небо, веселое солнце, сверкающие капели сосулек и оглушительный щебет воробьев, почуявших близкое тепло, – такая унылая, такая пещерная тишина стояла под этими насквозь промерзшими сводами.
Тут вся крутогорская история была собрана – от времен незапамятных, от каменных топоров и стрел, от скифских могильных черепков, от древнего русского оружия – мечей, секир и сайдаков – до диковатой современной картинки местного футуриста, где на сумасшедшую неразбериху разноцветных квадратов и кругов аккуратно, прочно была наклеена натуральная дамская туфля со стоптанным французским каблуком, а вся эта чепуха (судя по медной табличке на раме) называлась «Сентиментальный романс».
В низеньких сенях на кокетливом канапе конца восемнадцатого века сидела крохотная старушечка в дворницком тулупе, вязала чулок. Ефим спросил, здесь ли товарищ Легеня.
– Должно, там, – вязальной спицей старушка указала куда-то в глубь темного коридора.
Коридор был довольно широк, но низок, сводчатый потолок давил. Ефиму казалось, что он идет в глубоком подземелье. Пройдя десяток шагов, почувствовал на себе чей-то пристальный, немигающий взгляд сбоку. Не без робости скосил глаза в ту сторону: круглолицая румяная баба в расшитом сарафане и бисерном кокошнике пялилась на него бессмысленно вытаращенными голубыми стекляшками. За нею виднелась другая, третья… целый ряд. В причудливых старинных нарядах, одна ярче, цветистее другой, этнографические бабы провожали Ляндреса своими мертвыми глазами, пока он не оказался у приземистой двустворчатой двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Ефим деликатно постучал.
– Ну, что еще там? – послышался из-за двери сердитый голос. – Да входите же, сделайте одолжение, черт возьми!
В беспорядочном нагромождении картин, статуй, золоченых, черных и красных багетов, каких-то огромных, затейливой формы расписных ваз и стеклянных горок Ефиму не сразу удалось увидеть того, кто так нелюбезно отозвался на его деликатнейший стук. За крохотным вычурным столиком («в стиле Луи Которз», – наобум определил Ляндрес) сидел щуплый человечек в шубе, в шапке, в золотых очках на хрящеватом ястребином носу и что-то записывал в толстую клеенчатую тетрадь.
– Товарищ Легеня? – осведомился Ефим.
– Нуте? – обернулись, сверкнули очки.
– Я из редакции, – сказал Ефим. – Вот хотим рассказать читателям о музее… Заинтересовать массы, так сказать. Осветить.
Очки, метнув молнию, взлетели на лысоватый лоб. Тетрадь захлопнулась
– Ну, и ваша роль… – мямлил Ефим, несколько теряясь под пронзительным взглядом Дениса Денисыча. – Ваши, так сказать, заслуги…
– Моя роль? Мои заслуги? – Денис Денисыч пожал плечами. – Моя роль, молодой человек, очень скромна, а заслуги… заслуги надобно приписать не мне, а людям, сумевшим собрать и уберечь эти ценности. Ну-те-с… Идемте, я покажу вам кое-что, о чем действительно стоит рассказать… Прошу.
Они шли из зала в зал, среди каких-то чудовищных мослов, мамонтовых бивней, заржавевших корабельных якорей и пузатых, похожих на жаб, мортир, среди стеклянных шкафов с драгоценнейшим китайским и французским фарфором. Редкостей было так много, что уже и любопытство притупилось. Вот грубое, плотницкой работы кресло, на котором сиживал царь Петр; вот ветхий трехногий столик, некогда принадлежавший великому русскому поэту; вот синий полковничий мундир героя, дважды простреленный в Бородинском сражении… Цепи и клещи пытошной избы… Черные, похожие на обгорелые доски рукописные книги семнадцатого века… Золоченая, громоздкая, с пухлыми купидонами на дверцах карета, в коей матушка Екатерина совершала свой патриотический вояж из Санкт-Питербурха в новой донской городок Ростов…
Все было необычайно интересно, возле каждой диковинки хотелось постоять, поглазеть, поподробнее расспросить обо всем этого сухопарого, строгого, стремительного в движениях человека. Ляндрес жалел, что с того памятного ночного дежурства, когда на улице стучали пулеметы и было не до разглядывания музейных сокровищ, он так и не удосужился побывать здесь, – сколько раз ведь собирался, да то одно, то другое что-то важное и обязательное становилось поперек пути, и культпоход в музей откладывался, отодвигался на предбудущие времена.
Ефим знал, что за два послереволюционных года музей пополнился особенно ценными экспонатами из частных собраний – помещичьих усадеб, особняков городских богачей и что именно благодаря Легене ни одна вещь не пропала, не ускользнула, не оказалась в чьих-то воровских, нечистых руках. Он неутомимо метался из конца в конец губернии (что по тем временам было делом далеко не безопасным), искал и находил, причем ухитрялся массу новых приобретений не замуровывать на долгий срок в запасники, а сразу определять всему свое место, бесконечно перестраивая и меняя экспозицию выставочных залов. Особенно значительны были пополнения в отделе изобразительного искусства. Денис Денисыч откапывал такие шедевры, какими могла бы гордиться любая картинная галерея Европы.
– Послушайте, – восторженно сказал Ляндрес, – вы удивительный человек!
Денис Денисыч покраснел, как девушка, сконфузился. Пытаясь скрыть замешательство, принялся протирать стекла очков, затем сказал:
– Пожалуйте сюда…
Распахнул двери зала, увешенного картинами. И тут уж Ляндрес растерялся. Бородатые нерусские святые с обнаженными мускулистыми руками, с кудлатыми гривами (лишь золотые венчики над которыми доказывали, что люди эти не разбойники, не воины, а святые), черные фоны пещер, желтое пламя светильников, пыльные черепа и толстые священные книги… Пышнотелые нагие красавицы, сине-черные кирасы рыцарей… Неправдоподобно клубящиеся, напоминающие букли парика тучи, деревья невиданно кудрявые, как бы завитые… Кружевные воротники, парча, необъятные чаши кринолинов… Чужое, непонятное и даже враждебное в этой своей чужой непонятности оказывалось именно тем самым, что составляло главную ценность и гордость музейного собрания.