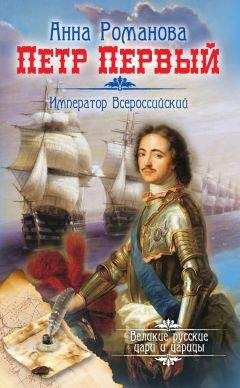Вадим Кожевников - Заре навстречу
— Давай такое, чтобы, значит, вранья меньше и где люди складно, доверчиво про себя обсказывают.
Начнет читать Тима, а слушатель прерывает:
— Ты мне не про то, как раньше, ты про то, как сейчас.
— Ну, нет таких, про сейчас, — обижался Тима.
— Как так нет? Раньше записывали про себя, а теперь перестали? Чего ты мне про Пугача с офицериком суешь? — и уходил с этим же требованием к другому подчитчику.
Но были и доверчивые слушатели. Они не только покорялись Тиминому выбору книг, но слепо верили в прочитанное. Эти сидели на лавке недвижимо и, будто грезя, шептали жалостливо:
— Ты скажи ему от себя, что он сволочь: пускай бабу простит, она ж не виноватая. Вот беда, обалдел, не верит.
Из-за таких слушателей Тима даже жульнически переиначил Тараса Бульбу. Дойдя до смерти Тараса, он скороговоркой «прочитал»:
— Тогда казаки, услыша голос Бульбы, повернули коней, наскочили на ляхов и стали рубить их, как капусту.
Дрова в костре раскидали, веревки, которыми Тарас был связан, ножами перерезали и ускакали вместе с Тарасом.
Только курительную его люльку оставили.
— Это правильно, — говорил одобрительно слушатель, — разве можно атамана в беде оставлять? А до тебя тут один брехал, будто бросили Тараса. Сам, видать, человек ненадежный, вот и кладет слова по-своему.
К удивлению Тимы, "Робинзон Крузо", его любимая книга, не пользовалась успехом.
Коногон Петухов сказал пренебрежительно:
— Что ж он, Робинзон этот, обозвал другого человека днем постным, придумал собачью кличку и забатрачил на себя; видать по хозяйской хватке живоглот.
— Но ведь Робинзон добрый, — заступился Тима.
— На острове-то будешь добрым. Ни стражников, ни полиции, с того и добрый. Дальше увидишь, как он этого черного оборотит.
Больше всего Тиме нравилось читать двум забойщикам, братьям Хабабулиным. Они слушали его напряженно, молча, почти не дыша. Уходили на цыпочках и только в дверях останавливались и молча кланялись Тиме на прощание.
Все приходящие в читальню были обязаны, прежде чем подойти к прилавку, где выдавались книги, мыть руки в углу под жестяным умывальником. Кто засыпал во время чтения, тех с позором изгоняли на улицу. Оставаться в шапках также было запрещено. А кто забывал снять при входе, на тех грозно кричали.
Постоянным слушателем Тимы был слепой десятник.
Он так рассказывал о своем несчастье:
— Стал кровлю доглядывать, поднял свечу, а газ как фукнет, ну и опалило.
Десятник сам назначал книги для чтения и приводил с собой еще двух слепых шахтеров — запальщика Снурова, которому выбило глаза, когда он отламывал смерзшиеся динамитные патроны, и стволового Хлебного. Тот потерял глаза, когда застряла бадья, зацепившись о ледяную настыль в стволе; чтобы освободить ее, он стал спускаться по канату, сорвался и ударился о край бадьи лицом.
Но через неделю эти слепые шахтеры перестали приходить в читальню. Тима забеспокоился — почему? Дуся Парамонова объяснила: десятник собрал митинг изувеченных шахтеров, которым Советская власть определила пенсию, и предложил, поскольку людей в шахтах не хватает, стать кому — дверовыми, кому — на ручные вентиляторы и на охрану насосов.
Здесь, в читальне, Тима слышал разговоры и о своем отце. Говорили больше уважительно:
— Комиссар здоровья велел всюду сушилки для одежды сколотить. Дождики поставить. Теперь с шахты уходишь сухой и мытый, как купец.
Открытие бани состоялось в воскресенье. Папа выступал с трибуны. Шахтеры потом качали его и одетым внесли в парную.
Но были шахтеры, которые говорили про отца, что он человек вредный и напрасно Сухожилии его слушается.
Этих шахтеров папа снял с подземных работ, когда доктор Знаменский установил у них заболевание туберкулезом. Пришлось им теперь вместе с ребятишками и женщинами работать на терриконах, на отсортировке угля.
Дело со строительством рубленых бараков для многодетных шахтеров подвигалось плохо. Сухожилии не давал больше крепежного леса, а другого не было.
Тима слышал от людей, что папа на заседании ревкома очень сильно поругался с Сухожилиным. Одни члены ревкома были за папу, другие за Сухожилина. Одни предлагали выбрать для стройки барака крепь из всех старых выработок; другие говорили, что и так все, что можно там снять, снято, а если дальше выбирать, произойдут опасные обвалы. Одни предлагали взять коней из шахт, чтобы привезти из тайги бревна, другие говорили, что и так коней в шахтах не хватает. Кроме того, сейчас наступила оттепель, и все дороги заболотило.
Запальщик Лепехин каждый день после работы три часа дежурил на милицейском посту возле Партийного клуба. Если дождило, он залезал под трибуну, стоявшую посредине площади, и сидел там на деревянном чурбачке.
Отбыв дежурство, заходил в читальню, и Тима доставал с полки сочинения Конан Дойля, считая, что Шерлок Холмс — самое подходящее чтение для милиционера.
Действительно, Лепехин одобрял, как ловко иностранный сыщик жуликов ловит. Но тут же вступал в спор с книгой.
— У нас уголовных хватает, на то мы и Сибирь, чтобы их к нам со всех сторон сгоняли. Но после девятьсот пятого, когда сюда политики поднаперли, уголовный другим человеком стал. Я ведь с отцом, как погорели в деревне, на большом сибирском тракте чайные обозы облегчал.
Не от себя, а по найму, на хозяина. Выйдем, бывало, на резвых, проскочим в голову обоза, ямщика в снег скинем, постромки срубим, крючки на кошевки накинем и пошли чесать… А как напоролись на стражников, тут папашу убили, а меня, по малолетству, в тюрьме содержали до возраста законного. Потом судили — и сюда, на каторгу.
Там тоже вроде Шерлока Холмса один допрашивал: как да как грабили. А почему грабили, к этому интереса нет.
И в книжке одна забота: лишь бы возвернуть буржую краденое. А почему человек в воровство кинулся — с голода, с беды какой, — на это наплевать.
— Вас в милиционеры выбрали, а вы за жуликов заступаетесь, — упрекнул его Тима.
Лепехин обиженно поморгал и, обратив к Тиме спекшееся шрамами лицо, сказал насмешливо:
— Жулик, он нынче особенный, его понимать надо, — и, поманив пальцем, зашептал на ухо: — Отряд на углярках уехал, не подала им дорога теплушек. А почему?
В России заводы без Донбасса голодают, а наш уголь подать не на чем. Вот какое жулье ловить надо!
— А что же вы их не ловите?
Лепехин, вздохнув, закрыл книжку.
— Вот если б писатель этот показывал, как такое жулье ловить, ну, цены бы ей не было, книжке твоей.
Комнатенка Союза социалистической молодежи была маленькая, узкая, вроде кладовки. Вместо табуретки — чурбачок, вместо стола — ящик из-под мыла. Под ним старательский сундук-скрытенъ, обитый кровельным железом, хранилище бумажного хозяйства союза.
Во время заседаний комитета дверь оставляли открытой, чтобы те, кому не удавалось протиснуться в комнату, могли слушать из коридора. Ребята усаживались там вдоль стен на корточках, оставляя проход для посетителей клуба.
Тиму зачислили в члены союза после того, как два его слушателя сказали Алеше Супырину, что подчитчик — паренек старательный и, когда читает про то, как плохо раньше жили люди, правильно осуждает за то буржуазию своими словами.
Словесную рекомендацию Тима получил также от Анисима и Дуси Парамоновых. Но приняли его на заседании бюро совсем не торжественно. Четырнадцатилетний ламповщик Аким Кривоногов, весь пропахший керосином, с черными от копоти ушами, строго предупредил:
— Ты паренек городской, хлипкий и не годами зелен, а тем, что на хлеб ни себе, ни отцу с матерью не зарабатывал. А что книги шибко читаешь, это еще полдела.
— Ладно, острастку принимаем, — сказал Супырпн. — У кого еще чего есть к зачислению Сапожкова в подростковую группу? Ставлю на голосование. Крикнул в коридор: — Там как у вас, есть против? Воздержавшихся?
Значит, записываем. — И тут же перешел к другому вопросу: — Получен наряд от товарища Опреснухина избрать восемь человек в охрану угольного эшелона. Сначала — кто сам желает, а после по отдельности обсуждать будем.
Тима поднял руку. Кривоногов сказал возмущенно:
— Не успели тебя в список недовозрастных зачислить, а уж сразу поперек других выскакиваешь! Не совестно тебе соваться?
Алеша Супырин записал имена желающих.
— Тут такое положение, товарищи, — коротко сказал он, зачитав список. На Урале и в России теперь пуд угля что пуд хлеба. Без хлеба люди слабнут, а без угля заводы становятся, — так что умри, а до места доставь.
Каждую кандидатуру обсуждали долго, тщательно, припоминая беспощадно только все худое, что за кем числилось. Про сына запальщика Лепехина говорили:
— Васька с получки деньги утаивал, на сапоги копил.