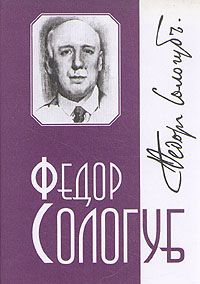Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
Книга рассказов Ф. Сологуба, русская по обаятельной прелести и живой силе языка, зачерпнутого из глубин стихии народной, русская по вещему проникновению в душу родной природы, – кажется французскою книгой по ее, новой у нас, утонченности, по мастерству ее изысканной в своей художественной простоте формы. Но важнее совершенства формы – как знамение все изощряющейся чуткости к шепоту сверхмирного – глубокое тайновидение художника К нему самому применимы слова, обращенные «знающей» Лепестиньей (Епистимией) к ее «зоркому» питомцу – Саше: «Такие уж, видно, тебе глаза Бог дал – ты ими и не хочешь, а видишь».
Это тайновидение, – совсем иное, чем. например, у Эдгара По, – лишено фантастики. В разоблачениях мира, соприсущего зримому, нет ничего ужасающего, ни чрезвычайного: напротив, он – норма, а наш мир – уклон, и лишь только этот наш «солнечный, ярый и внешний» мир перестает казаться оживленным внутренним сосуществованием того, сокрытого, он наводит на живые души тоску и ужас смерти. «Чего ужасаться? – говорит Саша о пугающем людей таинственном и неведомом. – Да вот и эта стена страшнее шишиги». Страшна неразгаданность и исчезающая призрачность земного, страшна подневольность внешнему, когда нам кажется, что «мы в борьбе с природой целой покинуты на нас самих». «Как во сне живем. – медленно говорила Дуня, глядя на близкое и бледное небо, – и ничего не знаем, что к чему. Ангелы сны видят страшные, вот и вся наша жизнь».
Мы сказали бы, что отличительная черта современной психики – horror vacui[4]. Этот ужас пустоты и обусловил настроение, провозгласившее банкротство той науки, которая еще недавно довлела сознанию. Отсюда открылся умам иной аспект мира, близкий к древнему анимизму: ему ответила наука становящаяся – теориями всеоживления. И миросозерцание творца «избранных и строгих творений», соединенных под символом «Жало смерти», – миросозерцание существенно мифологическое.
Итак, вечный возврат вещей как бы снова приводит в мир «период мифологический». Это ли не «упадок»? Нимало: это – шаг в поступательном движении познающего духа. Независимо от вопроса об истинности метафизических прозрений, важно установить, что они одноприродны с мифом. Первое, бессознательное устремление ума к принятию форм, определяющих позднейшие философемы, воплощается в мифе; он предвосхищает слепым влечением спящие возможности сознания. Наступает пора, когда миф отрицается во имя философемы. Более зрелая эпоха снова находит миф в мире.
«Лютое солнце стояло в самом притине Оно, словно громадный свернувшийся змей, вздрагивало всеми своими тесно сжатыми кольцами». – «Глаза-то у тебя смотрят, куда не надо, видят, что негоже. Что закрыто, на то негоже смотреть. Курносая не любит, кто за ей подсматривает… Везде она, голубь мой, все она – ив травке, и в речке. Ты идешь, – и она тут же ползет, травку сломит, козявку задавит. Негоже смотреть много, не любит она».
В «Жале смерти» друг-соблазнитель заворожил Колю своими холодными и прозрачными, русалочьими глазами. В «Красоте» нечистый и недоброжелательный взор сглазил Елену. В «Утешении» Митин взгляд притянул Раечку, игравшую на окне четвертого этажа, и душа разбившейся девочки, являясь благодатною спутницей маленького мученика жизни, должна влечь его к такому же падению, манить за роковую грань, отделяющую скорбь земной страды от утешения райского.
Мифологическое миросозерцание может быть и не быть религиозным; в последнем случае оно делается чисто демоническим. Такова атмосфера, которою дышат странные души, воззванные творчеством Ф. Сологуба, странники, проходящие через мир с печатью внемирного на челе. Они проходят под лютым солнцем, в чарах полдневной тишины, в зыбком, струящемся зное «безо ко го» и все же так пристально глядящего на них многобожия. Но этот безликий и тысячеокий сонм «нежитей», как и все облики внешнего, – только они сами: жизнь индивидуума – иллюзия единого духа. «Не все ли на этой земле равно неверно и призрачно? Ничего нет здесь истинного, только мгновенные тени населяют этот изменчивый и быстро исчезающий в безбрежном забвении мир». – «У тебя мамы нет. Все это только кажется, а на самом деле ничего нет, обман один. Подумай сам, если бы все это было в самом деле, так разве люди умирали бы? Разве можно было бы умереть? Все здесь уходит, исчезает, как привидение». Они могли бы пребыть в гармонии с своими многообразными двойниками, эти странники мира, – в чистоте и отрадной безмятежности состояния райского, и не бояться смерти, и не знать стыда и страха. Но неизбежно грехопадение земнородных. Зараза греха – жало смерти, и вышедший из первобытного рая души своей уже мертв, хотя бы еще и не умер плотию. Мир во зле лежит; но роковая сила зла – все же освободительная сила, ибо смерть вожделенна.
Душа рассказов – глубокая скорбь земного существования, обостряющаяся до последнего отчаяния. «Построить жизнь по идеалам добра и красоты! С этими людьми и с этим телом! Невозможно!.. Мы все вместе живем, и как бы одна душа томится во всем многоликом человечестве. Мир весь во мне. Но страшно, что он таков, каков он есть, – и как только его поймешь, так и увидишь, что он не должен быть, потому что он лежит в пороке и во зле. Надо обречь его на казнь, – и себя с ним». – «Но как бы там ни было, как хорошо, что есть смерть-освободительница». – «Нет на земле подруги более верной и нежной, чем смерть. И если страшно людям имя смерти, то не знают они, что она-то и есть истинная и вечная, навеки неизменная жизнь. Иной образ бытия обещает она. – и не обманет. Уж она-то не обманет».
Смерть – дружественная сила, и пока человек не вышел из своего рая, он доверчиво взирает на нее, да и нет для него различия между нею и жизнью, оба мира глядятся друг в друга в этой промежуточной полосе, и каждый из них – жизнь. Но совершается грехопадение, и жизнь – уже смерть, и смерть – впервые смерть как сила враждебная, и человек бежит, но не убегает от неизбежной. Nolentem fata trahunt[5]. Трепет пред близостью ласково зовущей смерти, впервые охвативший не ведавшего дотоле страха Сашу, отмечает его вступление на путь земной, истомный и смертный. Земная стихия сказалась в нем. и он пошел прочь от смерти – в жизнь, она же – воистину смерть, тогда как смерть – дверь жизни и обетование свободы.
«Он неподвижно глядел перед собою. Лепестинья подошла сзади. Она глядела на него суровыми глазами. Тихо и сурово сказала она. качая дряхлою головою: „Что смотришь? Куда смотришь? Опять к ей засматриваешь?“ И она пошла мимо, уже не глядела на Сашу, и не жалела его, и не звала. Безучастная и суровая, проходила она мимо Легкий холод обвеял Сашу. Весь дрожа, томимый таинственным страхом, он встал и пошел за Лепестиньей [Познанием], – к жизни земной пошел он в путь истомный и смертный».
Одно детство, не знающее смерти, ни страха, ни стыда. – как бы отголосок и продолжение забытого рая земли. И лучше умереть телу, чем душе, в тот роковой миг, когда человек снова изгоняется из рая. Мистерия детства – его святости и его грехопадения – вот содержание этой книги о детях. Но разве нельзя воскреснуть и вернуться к утраченному раю младенчества? Рассказ «Обруч» изображает бессознательную попытку такого возврата, но как тускл и бессилен этот печальный отблеск райского луча в душе давно умершей!
По-видимому, художник не верит, что можно «обратиться и стать как дети». И не веря в это мистическое возрождение, не видит он возможностей опрозрачненной жизни, единого правого «как», – жизни, просвеченной светом белой Тайны, которая, преломляясь в радугах бытия, самоутверждается, единая, в раздельной многоцветности явлений и, радуясь радужному претворению своему, удерживает и лелеет их над обрывами уничтожения, и хранит от слияния в белое безразличие. В этой книге тайновидения нет воления веры и нет надежды преображения. Она искушает дух к конечному Нет; но он, упорствующий, не отступит до конца от своих извечных притязаний пресуществить жизнь в умильные преломления единого всерадостного Да…
Лишний раз убеждаемся мы по прочтении этой книги о явной тайне в том, что лжив был реализм, затенявший тайну, что истинный реализм ее обнаруживает; что чем тоньше наблюдение, чем изощреннее внимание, устремленное на действительность, тем знаменательнее, символичнее действительность, тем прозрачнее отражение непреходящего в зыби мимо бегущих явлений: «Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss»[6].
Комментарии
Слаще яда*
Новая жизнь. 1912. № 4-11. Роман был начат в 1894 г. Первые главы под названием «Шаня и Женя» опубликованы в газете «Биржевые ведомости»: 1897,17–27 мая,№ 133,135–137,140,142 и 143. Печ. по изд.: Сологуб Ф. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1913. Т. 15 и 16. «Приготовляя роман к этому изданию, – пишет автор, – я внимательно просмотрел его и многое в нем изменил, не в содержании, а в форме и в подробностях».