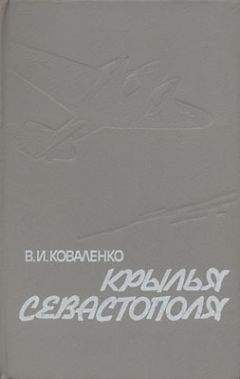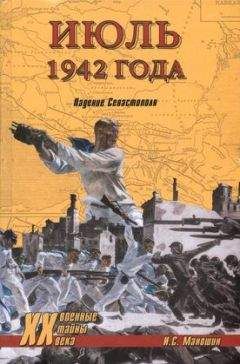Василий Аксенов - Звездный билет (сборник)
Обошел я все пивные, магазины, на пристань сбегал, в ресторан даже пролез — нигде Вальки не было, а стало уже смеркаться.
В сумерках я снова подошел к клубу. Церковь белела на темном небе, над входом надпись зажглась из электрических лампочек, а на ступеньках чернела толпа ребят, только огоньки папирос мерцали. Я подошел к ребятам и затесался в их толпу. Стрельнул у того кочегара, с которым утром бился, папироску.
— Слышал? — сказал кочегар. — На сто восьмом километре человека убили.
— Какого человека? — спрашиваю я, а сам что-то нервничаю.
— Никто не знает, что за человек, и кто убил — неизвестно.
— Что это вы мелете? — говорю я. — Что это за брехня? Как это можно человека убить?
— Точно, — кивают другие ребята. — Убили на сто восьмом кого-то. Говорят, монтировками по башке.
— Таких фашистов, — говорю, — стрелять надо.
— Правильно, — согласились ребята. — Не срок давать, а прямо к стенке.
— Валька Марвич не заходил сюда, ребята? — спросил я.
— Нет, не видели его.
Что за пропасть! Может, он уже в вагончике давно со своей Татьяной, а я тут бегаю, как коза? Решил я сходить в вагончик.
Таня сидела впотьмах на койке и курила. А на моей койке сидел Юра Горяев. Они молчали и дымили оба. Я тоже сел на койку и сказал:
— Точно неизвестно, но вроде его бригадир в лес послал с другими ребятами на заготовку теса. Крепления там надо ставить. Аврал у них на участке какой-то.
И только сказал про лес, вдруг захлестнула меня какая-то темная волна, и я захлебнулся от страха. Вдруг это Вальку на сто восьмом километре убили? И сразу я почувствовал такую злобу, такую ненависть, какой никогда у меня не было. Если это так, найду этих зверей в любом месте, сквозь тюремные решетки пройду, а горло им перегрызу. Ишь что выдумали, сволочи! Вальку моего монтировками по голове? Ну, гады, держитесь!
— Где же он, мой Валька? — тихо спросила Таня.
8
Сережа ушел продолжать поиски, а Таня и Горяев остались в темном вагончике. Таня сидела, обхватив колени руками, смиряя дрожь. Ей хотелось куда-то бежать, кричать, расспрашивать, но она сидела, боролась с паникой — куда бежать, кого расспрашивать?
— Есть все-таки предел чудачествам, — сказал Горяев.
— Дай закурить. Спасибо. Ты о ком?
— О Марвиче. О ком же еще? Полезнее было бы ему быть сейчас в Москве.
— Он здесь работает по своей специальности, — сказала Таня.
Сейчас она была уверена в правильности Вальки, в мудрости и логичности всех его поступков, вот только куда он девался?
— Его искали люди с киностудии, — раздраженно сказал Горяев, — хотели заключить договор. Где он был в это время?
— Он, кажется, знает об этом, — тихо сказала Таня, у нее вдруг разболелась голова.
— Пора ему работать профессионально. Я говорил с ним, а он плетет какую-то ахинею, пижон!
— Тише, Юра. — Таня прилегла на подушку.
— Он что, собирает здесь материал для книги?
— Возможно. Почему ты так раздражен?
— Напрасно он темнит.
— Где он?
— Найдется.
— А вдруг нет?
— Он сейчас пишет что-нибудь?
Ее раздражал тон Горяева, но в то же время ее успокаивало, что он говорит о Вальке, о каких-то конкретных, практических его делах, и ей казалось, что сейчас откроется дверь и Валька войдет и ввяжется в спор с Горяевым.
— Пишет, кажется. Рассказ. Вон на столе листы.
Горяев взял со стола листы и прочел:
«Валентин Марвич. Полдома в Коломне (рассказ).
Когда из-за потемневшего от времени забора сквозь пыльные акации я вижу маленький мещанский дворик с чисто выметенной дорожкой, с поникшим кустом настурции, с кучей желтых листьев, со скамейкой и столиком на подгнившей ноге, и окна в резных наличниках, не деревенские, а именно мещанские, пригородные, мне хочется остановиться и посмотреть на все это подольше, задержать все это в глазах, чтобы вспомнить о той тихой русской жизни, какой ни я, ни брат мой, ни даже наш отец никогда не жили. Может быть, только дед.
Константин нетерпеливо отстранил меня, толкнул калитку и побежал по дорожке. Черный сюртук его с золотыми погонами замелькал среди ветвей, что еще усилило литературное воспоминание о старине, о тихом, установившемся культурном быте с внезапными возгласами радости, с неожиданным шумом, с шумными короткими визитами флотских сыновей.
Не знаю, было ли это только литературным воспоминанием, или здесь участвовала наследственная память, странная и неведомая до поры работа мозга, но я вошел в палисадник, словно под музыку, словно под вальс „Амурские волны“, словно из японского плена; горло мое перехватило волнение.
Отец уже спускался нам навстречу, крича, трубя, сморкаясь и откашливаясь:
— Опять без телеграммы?! Мерзавцы! Стервецы! Мало вас пороли!
Никогда он нас не порол и никогда не называл такими ласковыми словами, вообще совсем не так себя держал, но сейчас почему-то он точно подыгрывал моему настроению.
Дорожка к крыльцу была выложена по обе стороны кирпичами, поставленными косо один к одному, так, что получался зубчатый барьер. На столике в саду лежали отцовы очки и развернутый номер „Недели“. Отец был к кителе, наброшенном на плечи, и в начищенных до блеска сапогах. Я стоял, обремененный чемоданами, и смотрел, как жадно отец обнимается с Константином.
— А теперь очередь рядового состава, — хохотнул Константин, отстраняясь.
И отец насел на меня. Грубая мясистая его щека прижалась к моей, гладкой и тугой, руки его легли мне на шею, захватив ленты, бескозырка съехала мне на затылок.
— Демобилизовался? — почему-то смущенно спросил отец.
— Так точно! — лихо ответил я.
Я вспомнил на мгновение наш тральщик, и ребят, оставшихся на нем, и длинный ряд однотипных тральщиков у стенки, вспомнил, как беззаботно и весело прощался со всем личным составом, и сердце на мгновение сжалось от тоски. Со стыдом я почувствовал, что тральщик ближе мне сейчас и родней, чем отец.
— Водку привезли? — бодро спросил отец.
— Нет, — ответили мы.
— Ослы! — удивительно нежно пожурил он нас, и на голове у него появилась шляпа, нелепая соломенная шляпа тонкой выделки с ажурными разводами мелких дырочек для дыхания головы, услада периферийного домовладельца, очень нелепая на голове нашего отца, которого в детстве мы привыкли видеть в суконной фуражке а-ля Киров.
— В магазин! — скомандовал он.
Чемоданы были занесены на террасу, отец закрыл дверь, навесил замок, и мы пошли по дорожке. Оглянувшись, я посмотрел на дом. Дом, как и участок, был разделен на две половины, и другая половина, не принадлежавшая отцу, была свежепокрашенной, новенькой на вид, голубой, и там, на той территории, в зеленых грядках краснели помидоры, бегала собака, переваливались утки, маленькая девочка развлекалась на качелях — вообще кишела какая-то жизнь.
Отец остановился возле большого куста ярчайших цветов, кажется астр, крякнув, поправил подпорки и пошел дальше.
— Давно ли ты стал увлекаться цветами, батя? — спросил Константин.
— В цветах своя философия, — не оборачиваясь, буркнул отец. Затылок его покраснел.
Над низким заборчиком приподнялась шляпа, такая же, как у нашего отца, только сильно поношенная, и мы увидели человечка с крепенькими красными щечками, с шелушащимся носом, на носу очки.
— Приветствую! — сказал человек.
Мы с Константином замедлили было шаги, но отец, даже не взглянув на человека, прошел мимо.
— Сынки пожаловали? — пискнул позади человечек.
Отец распахнул калитку, и мы пошли вдоль внешнего забора.
— Отчего вы так нелюбезны с соседом, сэр? — весело спросил Константин.
— Жук, — сказал отец, — куркуль. Сосны рубит, корчует, под грядки ему земля нужна. Агротехник.
Человек опять выглянул. Оказывается, он все время бежал за нами вдоль забора, подслушивал.
— Вам хорошо говорить про сосны, Иван Емельянович, с вашей-то пенсией, — на бегу запищал он. — А у меня какая пенсия, вы же знаете, хоть и полагается персональная… Заслужил, да, да, — кивнул он мне, видя, что смотрю на него с вниманием. — Вы же знаете, Иван Емельянович, что я заслужил…
— Да ну вас совсем! — буркнул отец, смущенно оглядываясь на нас.
— Хорош коммунист! — воскликнул сосед. — К нему обращаются, а он „да ну вас совсем“!
Отец замедлил шаги.
— Оставьте, — сказал он. — Ну чего это вы? Чего вы продираетесь сквозь наши заросли? Одежду порвете.
— Обидно, — хлюпнул носом сосед, — сынки ваши приехали, а вы даже не знакомите. Когда касается игры…
— Знакомьтесь, — сказал отец.
— Силантьев Юрий Михайлович, — солидно сказал сосед.
Он сразу преобразился и смотрел теперь на нас несколько сверху, любовно, отечески строго.
— Ишь какие орлы у тебя вымахали, Иван Емельянович. Орлы, орлы! Оба с Северного флота? Ну как, граница на замке?
— Мы с ним в шахматы иной раз играем, — смущенно пояснил отец. — Чумной старик. Мемуары пишет о своем участии в революции, примерно так: „Помню, как сейчас, в 19-м году 14 империалистических государств ледяным кольцом блокады сжали молодую Советскую республику“. И излагает учебник истории для средней школы. Но в шахматах имеет какой-то странный талант. Играет, как Таль: запутает, запутает, подставляет фигуры. Кажется, победа в руках, вдруг — бац — мат тебе!