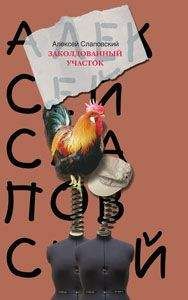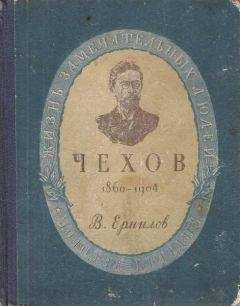Константин Станюкович - В мутной воде
Борский давно уже разошелся со всеми приятелями своей молодости. При встрече с ними он сперва отворачивался, а потом прямо глядел на них, точно на незнакомых людей.
По временам на него находила жестокая хандра, и тогда он запирался дома и никого не принимал, но дела скоро излечивали его, и он, снова деятельный, неутомимый, то появлялся на бирже, то в кабинете министра, то в будуаре нужной содержанки, то в гостиной старой ханжи, фрейлины, могущей замолвить слово.
Мысль о женитьбе на Елене пришла к нему случайно. Он об этом прежде не думал. Александра Матвеевна навела его на эту мысль, уверив его, что дядя даст хорошее приданое и оставит состояние. Приданым он надеялся замазать дыры и затем занять денег у Орефьева и поправить свои дела…
Но для Борского, как и для игроков, наступила несчастная полоса. Все не клеилось, все не удавалось. Перед ним теперь стоял грозный вопрос, как вывернуться из положения…
Но не об этом думал теперь Борский, сидя в кабинете.
Он думал об Елене, и сознание, что она его ненавидит, приводило его в ужас…
— Неужели я влюбился в свою жену, как мальчишка! — проговорил он, встряхивая головой, словно желая освободиться от гнетущих мыслей.
Он начал было думать о делах, но в первый раз в жизни дела не шли на ум, и никакие спекуляции не зарождались в его больной голове.
Он, как школьник, мечтал об Елене и искренне завидовал Венецкому.
Глава десятая
Объявление войны
Иностранец, попавший из Парижа, Лондона или Вены на петербургские улицы в понедельник 13 апреля 1877 года, был бы несказанно удивлен, узнав, что в этот самый день в Петербурге появился манифест, объявлявший восьмидесятимиллионному населению о войне с Турцией. Так незначительны показались бы иностранцу проявления общественного возбуждения по сравнению с теми, которые бывают в европейских городах при событиях гораздо меньшей важности, чем объявление войны.
Нас, русских, подобная сдержанность, разумеется, не удивила. Русский человек издавна приучен к осторожности в выражении чувств, возбуждаемых в нем тем или другим событием, и рискует обнаружить их на людях только тогда, когда вполне уверен, что подобное проявление освящено санкцией. А так как в знаменательный день 13 апреля 1877 года обыватели не были извещены о том, что им предоставляется зажечь иллюминацию, то петербургские улицы в этот день представляли обычный, будничный вид.
Рассказывая по долгу справедливого летописца о внешнем виде Петербурга в день объявления войны, я, разумеется, не имею в виду отрицать возбуждения, охватившего множество народа при чтении манифеста. Говорить о степени и характере возбуждения в нашем обществе довольно трудно, так как проявления его у нас не имеют публичного характера, но тем не менее, насколько выражались эти проявления среди петербургского общества, надо сказать правду, что проявления эти были в большинстве радостного характера.
Я вполне убежден, что и в Петербурге, по примеру Парижа, могла бы собраться значительная толпа (особенно если бы чиновникам позволили не ходить в департаменты) публики, которая бы ходила с криками: «В Царьград! В Царьград!» Почва для такой манифестации была хорошо подготовлена многими из наших газет, и если такой толпы мы не видали, то, надо думать, единственно потому, что еще не было вполне известно, как отнесется начальство к проявлению такого патриотического восторга.
Вот единственно возможное объяснение отсутствия манифестации, которая бы заставила иностранца, хотя по этим проявлениям, сравнить Петербург с европейским городом.
По странной случайности объявление о войне — «самой популярной», как выражались в те дни газеты, — прежде всего появилось в «Journal de S.-Petersbourg»[8], и популярная война стала известна сперва на французском языке. И только в полдень 13 апреля из конторы «Правительственного вестника»[9] вышли листки манифеста на русском языке, нарасхват раскупаемые у разносчиков.
В этот памятный понедельник погода была отвратительная: холодный ветер пронизывал насквозь и сквозил по всем улицам и перекресткам. У типографии «Правительственного вестника» толпилась публика. На бойких улицах было обычное движение. Разносчики выкрикивали свежую новость. Телеграммы шли ходко; их покупали, прочитывали и шли далее, погруженные в свои будничные заботы.
Какая-то бедно одетая старушка остановилась у разносчика, прочитала телеграмму и залилась слезами тут же на Невском. На нее прохожие глазели с удивлением. Городовой деликатно попросил ее не плакать на улице, так как она делает беспорядок.
— Этакое известие да не плакать!.. Внучек один был, — и того теперь убьют. Я, сударь, мужа и трех сыновей в Крымскую войну потеряла… Так поневоле заплачешь! — проговорила старушка, уходя с Невского в Троицкий переулок.
Такие сцены бывали, но их не описывали в то время. Описывали более проявление восторгов…
«Роковое слово было произнесено». Оставалось только прочесть его и радоваться или плакать ad libitum[10]. Ни я, ни вы, благосклонный читатель, не принимали непосредственного участия в этом деле, и, следовательно, нам оставалось принять этот факт, как свершившийся, и посоветовать нашим женам я сестрам щипать корпию в ожидании моря крови, которое должно было пролиться на Балканском полуострове и отозваться морем слез на родине.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
В этот самый день, в девять часов утра, Венецкий являлся к начальству. Толстый, плешивый артиллерийский генерал объявил ему, весело улыбаясь, что ему выпала честь ехать в действующую армию, так как там нужны дельные и образованные офицеры.
Объявляя молодому офицеру это назначение, генерал, разумеется, ожидал, что офицер просияет от той чести, которая ему выпала на долю, но, к некоторому изумлению генерала, на лице Венецкого не отразилось особенного сияния при этом известии. Он как-то сосредоточенно разглядывал пухлое, краснощекое лицо, курносый, приплюснутый нос и маленькие заплывшие глаза генерала, и когда генерал окончил свою речь, он поклонился и произнес:
— Слушаю, ваше высокопревосходительство!
— Надеюсь, рады, молодой человек? — продолжал генерал, весело улыбаясь маленькими глазками.
И, полагая, что молодой человек робеет, а потому и не обнаруживает чувств перед начальством, генерал шутливо ткнул толстым коротким пальцем Венецкого и, усмехнувшись, заметил:
— Рветесь?.. Георгия хочется получить сюда… а? — прибавил он, фамильярно трепля Венецкого по груди.
Венецкий молча поклонился опять.
Генерал бросил взгляд на офицера, повел бровями, отошел шаг назад и совсем уже серьезно спросил:
— Фамилия?
— Венецкий, ваше высокопревосходительство!
— Православный?
— Точно так-с.
— Из какой губернии?
— Из Черниговской.
— Полковника Венецкого сын?
— Точно так-с.
— Гм… Ну, очень рад… очень рад… Знавал покойного отца… Надеюсь, что ты сумеешь поддержать честь русского имени… и если придется умереть, умрешь, как лихой артиллерист…
И, не дожидаясь ответа, генерал сказал:
— Ну, с богом… Через три дня поезжай… Надеюсь увидеть тебя целым и невредимым… А матушку Русь не посрамим! — прибавил вдруг генерал дрожащим голосом, и маленькие его глазки заслезились. — Не посрамим! — повторил он, обнимая Венецкого и троекратно целуя его в губы.
Для Венецкого это назначение не было новостью. Три дня тому назад его призывали в департамент и объявили ему, что он назначен в действующую армию. Он принял это известие с обычною улыбкой на лице и не выразил ни радости, ни печали… Он в тот же день был у старика Чепелева и намекнул ему, что ему очень бы хотелось проститься с Еленой. Старик сперва наотрез отказал, но потом согласился…
— Уж как-нибудь, братец, устроим. Ты приходи денька через три. Уж делать нечего… Проститесь… Ведь на войну идешь. Эх, я стар стал, а то бы сам дернул. Ну, да долго вы там не будете, надеюсь. К лету в Царьграде. Оттуда напиши мне письмо…
Откланявшись начальству, Венецкий поехал к Неручному объявить ему о своем положении. Он застал приятеля за укладкой чемоданов. Матрена то и дело утирала слезы и сквозь слезы ворчала, чтобы Неручный не растерял белья.
— Венецкий… здорово! — произнес, поднимая голову, Неручный. — Видите, у нас какие дела. На войну еду, приказывают как можно скорей.
— И я тоже еду… сейчас от начальства.
— Так и вы не ушли от войны?..
— Что делать!.. — промолвил Венецкий.
Приятели сговорились ехать вместе.
— И отлично… Вот, Матренушка, и попутчик есть, а вы сокрушаетесь все. Знаете ли, Венецкий, Матрена пресерьезно просилась ехать со мной… Говорит, что за бельем некому будет присматривать.